Конференция «Куклы, автоматы, роботы: искусственное тело в мировой интеллектуальной и художественной культуре»
Доклады участников НИСа
Авторы: Алиса Китрар, Мария Муханова
[Заметки]
3−5 декабря 2018 года в ИМЛИ РАН и Школе филологии НИУ ВШЭ прошла конференция, посвященная 200-летию издания романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Студенты НИСа также выступили с докладами, которые мы предлагаем к прочтению.
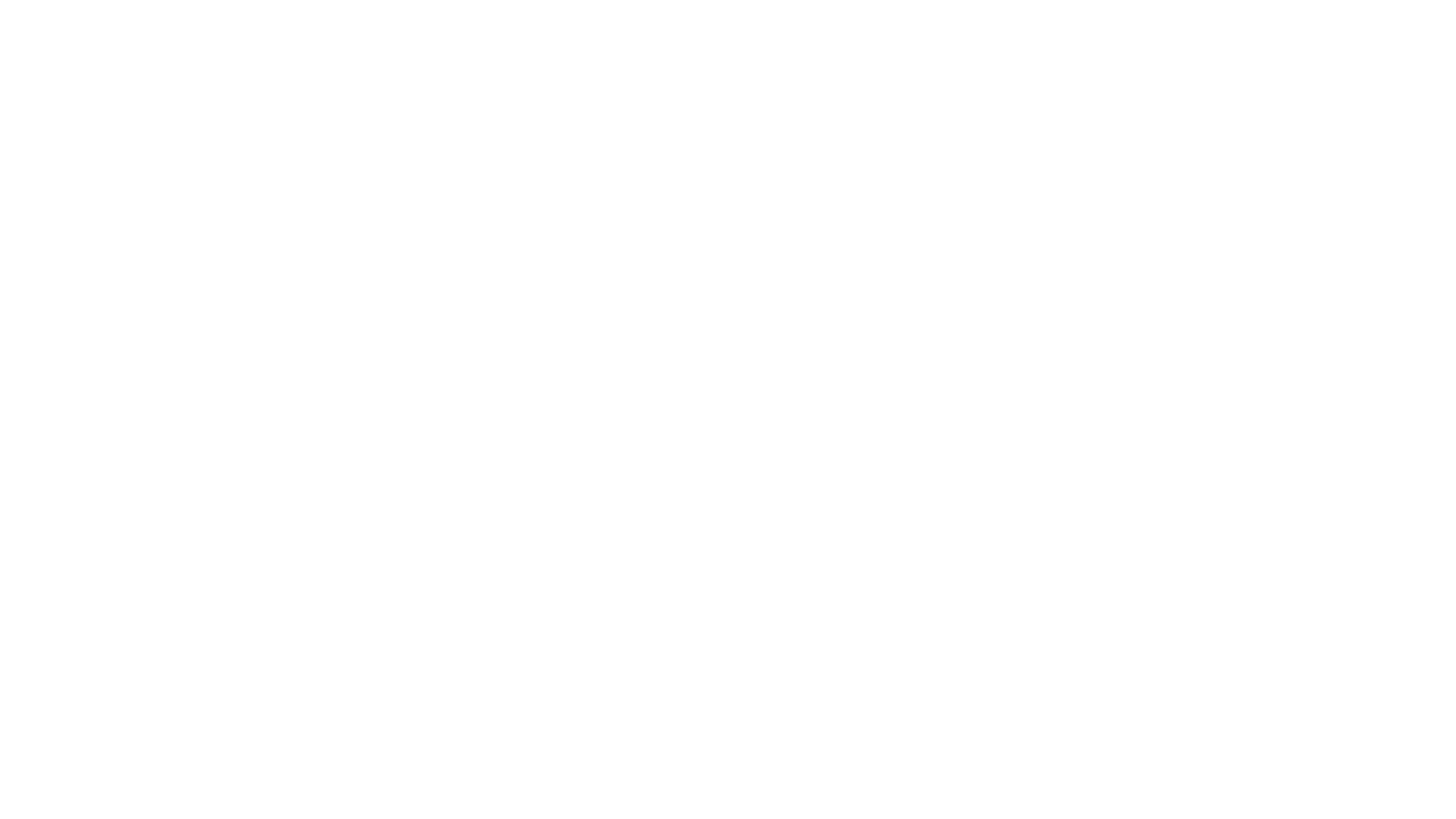
Алиса китрар
Театр масок в спектакле Ю. Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» (1965/1987)
В данной статье представлена типология масок, использованных Ю. П. Любимовым в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» (1965/1987) в Театре на Таганке. Речь пойдет и о художественных функциях масок различного типа. Будет также отмечена традиция использования цирковой репризы Н. Эрдманом, оказавшей влияние на сценический язык Любимова.
Название спектакля Театра на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир» в постановке Юрия Любимова имело подзаголовок: «Народное представление в 2 частях с пантомимой, цирком, буффонадой и стрельбой». Постановка Любимова отсылала к мифам о первых днях возникновения советского государства. Виктор Шкловский так писал в отзыве на этот спектакль, что «это воскрешение не осуществившейся до конца драматургии первых лет нашей революции».В. Щацков рассказывает в своей статье «Ненависть доброго человека», что в Щукинском училище в 1963 году те четыре вечера, когда игрался спектакль, поставленный по одноименной книге Джона Рида, — это "четыре овации – победа, которая не может быть неофициальной».
Любимов искал для своего спектакля формы площадного, балаганного зрелища, и Октябрьская революция интересовала его прежде всего как мифологизированное зрелище. После премьеры спектакля Любимов пояснял, что «хотелось сделать спектакль в традициях празднования первых годовщин Октября, программ коллективов агитпоездов «синей блузы», окон РОСТА, используя выразительные средства агитплаката, героико-революционного гротеска, буффонады, мистерии», то есть средств, истоками уходящих в «театр улиц, площадей и фольклорных жанров». Новиков также отмечает в своей книге «Высоцкий», что при этом политическая концепция спектакля не особо ярко выражена, что вполне, по его мнению, отвечает шестидесятнической идеологии в целом.
Однако, полемическая концепция у спектакля все же была, она просто была не политической. Любимов в своих мемуарах «Рассказы старого трепача» описывал эту работу как выпад против театрального однообразия, как попытку противостоять тогдашнему лозунгу «МХАТ — лучший театр мира» всей «широтой театральной палитры». В театре, считал Любимов, может быть все — и цирковая реприза, и буффонада, и театр теней или рук, и эпический театр. Правда, некоторым зрителям 1960-х годов казалось, что «Десять дней…» — благонамеренная советская агитка, в условиях «оттепели» освещающая в форме театрализованного «народного» представления события, охватывающие период в основном между февралем и маем 1917 года. И действительно, спектакль по своей форме является необычным зрелищем, так как агитирует за новый театр, театр разнообразия.
Любимов искал для своего спектакля формы площадного, балаганного зрелища, и Октябрьская революция интересовала его прежде всего как мифологизированное зрелище. После премьеры спектакля Любимов пояснял, что «хотелось сделать спектакль в традициях празднования первых годовщин Октября, программ коллективов агитпоездов «синей блузы», окон РОСТА, используя выразительные средства агитплаката, героико-революционного гротеска, буффонады, мистерии», то есть средств, истоками уходящих в «театр улиц, площадей и фольклорных жанров». Новиков также отмечает в своей книге «Высоцкий», что при этом политическая концепция спектакля не особо ярко выражена, что вполне, по его мнению, отвечает шестидесятнической идеологии в целом.
Однако, полемическая концепция у спектакля все же была, она просто была не политической. Любимов в своих мемуарах «Рассказы старого трепача» описывал эту работу как выпад против театрального однообразия, как попытку противостоять тогдашнему лозунгу «МХАТ — лучший театр мира» всей «широтой театральной палитры». В театре, считал Любимов, может быть все — и цирковая реприза, и буффонада, и театр теней или рук, и эпический театр. Правда, некоторым зрителям 1960-х годов казалось, что «Десять дней…» — благонамеренная советская агитка, в условиях «оттепели» освещающая в форме театрализованного «народного» представления события, охватывающие период в основном между февралем и маем 1917 года. И действительно, спектакль по своей форме является необычным зрелищем, так как агитирует за новый театр, театр разнообразия.
Итак, на сцене вместо начала спектакля мы видим театрально-балаганную разминку части труппы. Артисты как будто не замечают публику, идут последние минуты тренажа.
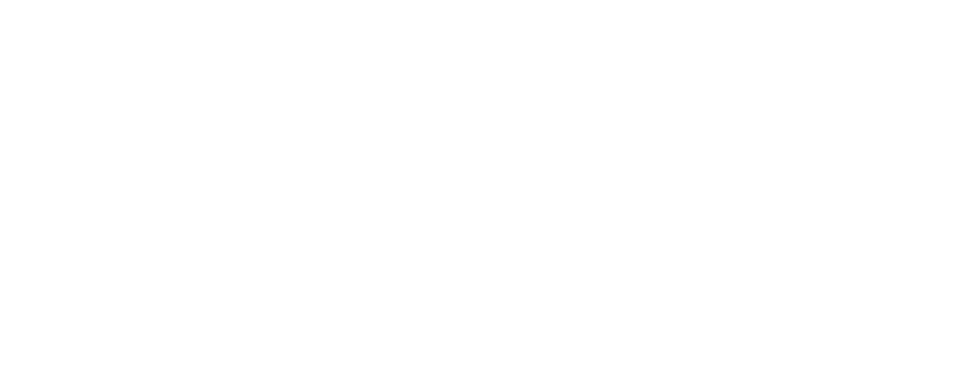
Актеры надевают перед публикой маски, танцоры оттачивают номера пантомимы, «четыре гитары и аккордеон неустанно отбивают такт». Уже в этой короткой "импровизации"-интермедии серьезное начинает смешиваться с комическим. Три бойца с винтовками выходят на сцену, и по труппе идет шепот: «тишина, тишина», бойцы вскидывают винтовки, раздается залп. Комедианты бросаются врассыпную, и начинается представление о десяти днях, которые потрясли мир.
В первый раз маски появляются в эпизоде допроса Джона Рида, которые монтируются с эпизодом пантомимы "Восстание", где возникает символический – а точнее, аллегорический — ряд таких героических фигур, как девушка-пламя, она воплощает Борьбу, фигура Пахаря и Сеятеля, воспроизводящая образ плаката раннего советского времени "Красный пахарь" (Художник Б. Зворыкин 1920), фигура кузнеца, тоже напоминающая об образе кузнеца с многочисленных плакатов этой эпохи. Комическое опять переплетается с патетикой, и уже в следующей сцене мы наблюдаем, как комиссия сенаторов судит Джона Рида за написанную после поездки в СССР книгу «Десять дней…». Все сенаторы имеют «вещные», по определению Ю. Тынянова, маски — они облачены в судейские мантии, на голове у них — квадратные академические шапочки, и главное, все актеры также носят маски; каждая маска закрывает лишь часть лица, имея при этом выразительные, карикатурные носы и поддельные щеки; у некоторых масок есть также нелепые бутафорские усы и очки разной формы и размеров. Эти маски упрощают образы персонажей, в то же время придавая характерно-сатирический облик американским капиталистам, пребывающим в священном ужасе от Джона Рида, который пишет не о Бруклинском мосте, а о проститутках и трущобах Америки. На сцене есть еще одна маска – оживающий на глазах зрителя портрет Вудро Вильсона, президента США (во второй срок его правления, с 1917 по 1921 гг.). Лицо актера, благодаря прорези в холсте, замещает лицо Вильсона и тоже начинает напоминать плакат революционного времени.
«Живой» портрет, впрочем, не только служит декором мизансцены как атрибут 1920-х годов, но и оказывается участником действия: в финале эпизода, после того как Джона Рида отпускают из зала суда, он обращается непосредственно к публике. И под танцы шансонеток начинает исполнять в духе брехтовских зонгов отрывок из поэмы Максимилиана Волошина 1922 года «Государство»:
Политика есть дело грязное —
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
Но избиратели доселе верят
В возможность из трех сотен негодяев
Построить честное
Правительство стране.
Отмечу, что в этой поэме есть и такие, не прозвучавшие в спектакле слова, как: «шпионаж, цензура, доносы и террор» есть «достижения и гений революции», а само революционное государство представлено всего лишь как «уголовный класс», поменявшийся местами с предыдущим правящим. В спектакле, воспевающем революцию, этот зонг был отнесен к американской реальности, однако в сознании зрителя он соотносился, прежде всего с советской реальностью. Таким образом полемическая острота спектакля не снижалась тем, что его авторы использовали далеко не самый острый фрагмент стихотворения Максимилиана Волошина.
В первый раз маски появляются в эпизоде допроса Джона Рида, которые монтируются с эпизодом пантомимы "Восстание", где возникает символический – а точнее, аллегорический — ряд таких героических фигур, как девушка-пламя, она воплощает Борьбу, фигура Пахаря и Сеятеля, воспроизводящая образ плаката раннего советского времени "Красный пахарь" (Художник Б. Зворыкин 1920), фигура кузнеца, тоже напоминающая об образе кузнеца с многочисленных плакатов этой эпохи. Комическое опять переплетается с патетикой, и уже в следующей сцене мы наблюдаем, как комиссия сенаторов судит Джона Рида за написанную после поездки в СССР книгу «Десять дней…». Все сенаторы имеют «вещные», по определению Ю. Тынянова, маски — они облачены в судейские мантии, на голове у них — квадратные академические шапочки, и главное, все актеры также носят маски; каждая маска закрывает лишь часть лица, имея при этом выразительные, карикатурные носы и поддельные щеки; у некоторых масок есть также нелепые бутафорские усы и очки разной формы и размеров. Эти маски упрощают образы персонажей, в то же время придавая характерно-сатирический облик американским капиталистам, пребывающим в священном ужасе от Джона Рида, который пишет не о Бруклинском мосте, а о проститутках и трущобах Америки. На сцене есть еще одна маска – оживающий на глазах зрителя портрет Вудро Вильсона, президента США (во второй срок его правления, с 1917 по 1921 гг.). Лицо актера, благодаря прорези в холсте, замещает лицо Вильсона и тоже начинает напоминать плакат революционного времени.
«Живой» портрет, впрочем, не только служит декором мизансцены как атрибут 1920-х годов, но и оказывается участником действия: в финале эпизода, после того как Джона Рида отпускают из зала суда, он обращается непосредственно к публике. И под танцы шансонеток начинает исполнять в духе брехтовских зонгов отрывок из поэмы Максимилиана Волошина 1922 года «Государство»:
Политика есть дело грязное —
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
Но избиратели доселе верят
В возможность из трех сотен негодяев
Построить честное
Правительство стране.
Отмечу, что в этой поэме есть и такие, не прозвучавшие в спектакле слова, как: «шпионаж, цензура, доносы и террор» есть «достижения и гений революции», а само революционное государство представлено всего лишь как «уголовный класс», поменявшийся местами с предыдущим правящим. В спектакле, воспевающем революцию, этот зонг был отнесен к американской реальности, однако в сознании зрителя он соотносился, прежде всего с советской реальностью. Таким образом полемическая острота спектакля не снижалась тем, что его авторы использовали далеко не самый острый фрагмент стихотворения Максимилиана Волошина.
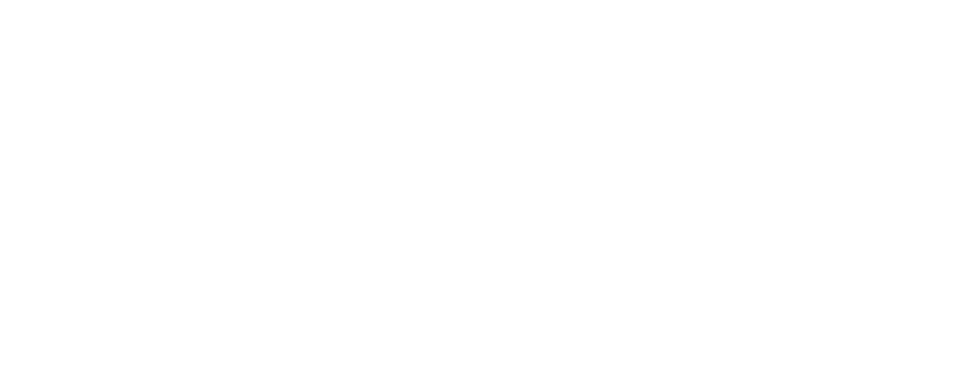
Вместе с тем, в этом же эпизоде использование масок сочетается с комическим балаганом, в духе «конструктивистского», как охарактеризовал таким образом поэтику пьесы «Мандат» Ю. Щеглов, балагана Эрдмана. Персонажи попадают в комедию положений (например, офицер, показывающий Джону Риду как присягнуть в суде, сначала берет крест не в ту руку, при этом крест еще и с грохотом падает на сцену; сенаторы хотят замять дело Рида, а оно, уже изъятое и лежащее на полу сцены, начинает в буквальном смысле слова распухать). Реплики персонажей в эпизоде построены также и на языковом комизме: сенаторы отпускают Рида, произнося: «Свободен», на это американский журналист отвечает: «Свободен без свободы». В речи персонажей этого эпизода используется и прием реализации метафоры: в гневе сенаторы говорят, «что выходят из себя», и действительно в буквальном смысле «выходят из себя», при этом еще и обыгрывая технику отчуждения эпического театра Брехта, — снимают маски, мантии и шапочки, выходя из-за судейских стоек. Правда длится это совсем недолго, и актеры вновь «входят» в своих персонажей.
Следующая группа масок появляется в эпизоде «Благородное собрание», который снова монтируется с серьезными сценами — пантомимами «Тяжелая доля» и «Кресты». Участники Благородного собрания устраивают застолье, они в масках – и это маски характерных для плакатов советского времени фигур досоветского прошлого: пьяного попа, банкира, дворянина и фабриканта. В эпизоде также мелькает маска официанта, замечающего членам собрания, что рыбу есть руками не положено (что, конечно, сильно возмущает «благородных» граждан). Примечательно, что маски персонажей этого эпизода похожи на маски американских капиталистов, однако каждый персонаж при этом наделяется и типично русскими чертами и соответствует привычному для российской публики образу представителя той или иной общественной прослойки. Так, маска попа закрывает все лицо актера, имеет длинную бороду и усы из соломы, а также крупные пухлые щеки и нос «картошкой». Поп облачен в рясу и носит парик с прической под горшок – всё это черты его маски. Это комическая фигура, невпопад выдающая такие реплики, как «Была такая установка — опровергать Дарвина» или «Для народа надо устраивать зрелища — крестные ходы». Ему же в основном принадлежат реплики с игрой слов: на замечание банкира, что интеллигенция — это цвет нации, поп отвечает, что она, напротив, «пустоцвет». Маска дворянина имеет заостренный нос и длинные усы, а также монокль. Этот персонаж представляет собой сатирическое изображение английского капиталиста — и размышляет он об английском боксе. Маска банкира напоминает настоящего русского барина, с огромными усами и пышными бровями из соломы. Банкир также произносит характерные реплики, например, такую: «Народу нужна сильная рука». У фигуры фабриканта маска имеет комичные брови «домиком», выдающийся нос и усы. Фабрикант предстает этаким пугливым человеком, боящимся почти всего – социализма, эсеров, восстания Пугачева... Все фигуры, кроме попа, носят своего рода «униформу» — фрак. Маска упрощает, примитивизирует их образы, подчеркивает типичность как представителей буржуазного класса.
Следующая группа масок появляется в эпизоде «Благородное собрание», который снова монтируется с серьезными сценами — пантомимами «Тяжелая доля» и «Кресты». Участники Благородного собрания устраивают застолье, они в масках – и это маски характерных для плакатов советского времени фигур досоветского прошлого: пьяного попа, банкира, дворянина и фабриканта. В эпизоде также мелькает маска официанта, замечающего членам собрания, что рыбу есть руками не положено (что, конечно, сильно возмущает «благородных» граждан). Примечательно, что маски персонажей этого эпизода похожи на маски американских капиталистов, однако каждый персонаж при этом наделяется и типично русскими чертами и соответствует привычному для российской публики образу представителя той или иной общественной прослойки. Так, маска попа закрывает все лицо актера, имеет длинную бороду и усы из соломы, а также крупные пухлые щеки и нос «картошкой». Поп облачен в рясу и носит парик с прической под горшок – всё это черты его маски. Это комическая фигура, невпопад выдающая такие реплики, как «Была такая установка — опровергать Дарвина» или «Для народа надо устраивать зрелища — крестные ходы». Ему же в основном принадлежат реплики с игрой слов: на замечание банкира, что интеллигенция — это цвет нации, поп отвечает, что она, напротив, «пустоцвет». Маска дворянина имеет заостренный нос и длинные усы, а также монокль. Этот персонаж представляет собой сатирическое изображение английского капиталиста — и размышляет он об английском боксе. Маска банкира напоминает настоящего русского барина, с огромными усами и пышными бровями из соломы. Банкир также произносит характерные реплики, например, такую: «Народу нужна сильная рука». У фигуры фабриканта маска имеет комичные брови «домиком», выдающийся нос и усы. Фабрикант предстает этаким пугливым человеком, боящимся почти всего – социализма, эсеров, восстания Пугачева... Все фигуры, кроме попа, носят своего рода «униформу» — фрак. Маска упрощает, примитивизирует их образы, подчеркивает типичность как представителей буржуазного класса.
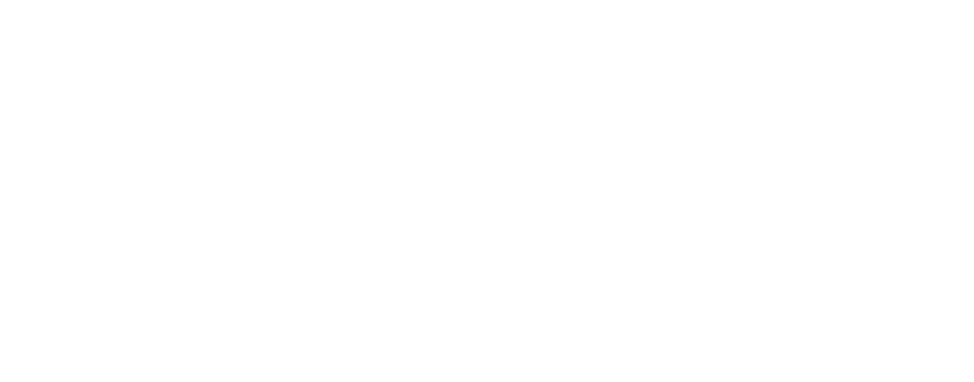
В этом эпизоде особенно примечателен момент с очередным «выходом» актеров из своих ролей: персонажи снимают маски и, обращаясь к публике, замечают: «Говорят люди слова знакомые, а смысл невнятен», поясняя таким образом бессмысленные мудрствования членов Благородного собрания.
В финале эпизода на сцену выходят матросы – это артисты с гитарами и аккордеоном; они исполняют песню-зонг на слова Ф. Тютчева:
В финале эпизода на сцену выходят матросы – это артисты с гитарами и аккордеоном; они исполняют песню-зонг на слова Ф. Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
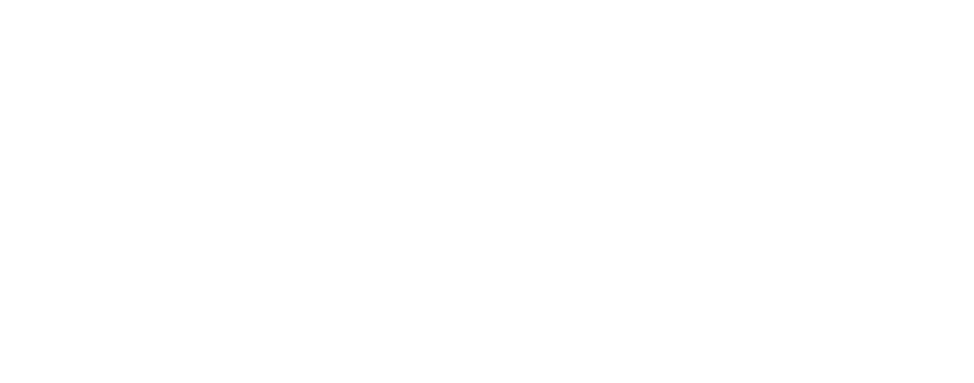
Музыканты уходят, а актеры, игравшие членов Благородного собрания, снова возвращаются в своих персонажей и, словно в пику только что покинувшей сцену группе музыкантов, комментировавших происходящие на сцене события, затягивают уже несколько иное: звучат слова из православного песнопения «Многая лета!» — они желают благополучия и долголетия царю Николаю II.
Третья группа масок принадлежит обществу дипломатов капиталистического мира. Примечательно, что в спектакле 1987 года появление персонажей на сцене предваряет минималистичный плакат-карикатура, и кажется, что группа застывших в позах плакатных фигур дипломатов словно сошла с такого плаката. Эти маски достаточно однотипные, с крупными карикатурными носами и толстыми бровями, зачастую с очками. Характерна только маска турецкого подданного — он носит красную феску. Именно эта фигура делает замечание о другой ключевой в рамках фабулы спектакля фигуре-маске, о которой мы поговорим немного позже. Все остальные маски размышляют о мирных событиях страны, происходящих на фоне революции. Языковой комизм эпизода строится на каламбурах. Например, одна маска сообщает, что вышла газета под названием «Кузькина мать» (аллюзия на известное выражение Хрущева, которое в момент постановки спектакля было у всех на слуху – выражение «Мы вам покажем Кузькину мать» прозвучало из уст Н. Хрущева 12 октября 1960 года во время его выступления на 15-й Ассамблее ООН,у иностранцев вызвало замешательство; у российской интеллигенции – насмешливо-ироническое отношение к руководителю собственного государства), тогда как вторая маска с французским уточняет: «Чья маман?» В этой сцене комедии положений используется прием театра марионеток: в начале эпизода идет краткий музыкальный проигрыш, в котором маски-дипломаты двигаются как фигурки из музыкальной шкатулки, чокаясь бокалами; при упоминании имени Ленина все персонажи начинают неестественно, деревянно двигаться, очевидно, изображая приступ ужаса.
Третья группа масок принадлежит обществу дипломатов капиталистического мира. Примечательно, что в спектакле 1987 года появление персонажей на сцене предваряет минималистичный плакат-карикатура, и кажется, что группа застывших в позах плакатных фигур дипломатов словно сошла с такого плаката. Эти маски достаточно однотипные, с крупными карикатурными носами и толстыми бровями, зачастую с очками. Характерна только маска турецкого подданного — он носит красную феску. Именно эта фигура делает замечание о другой ключевой в рамках фабулы спектакля фигуре-маске, о которой мы поговорим немного позже. Все остальные маски размышляют о мирных событиях страны, происходящих на фоне революции. Языковой комизм эпизода строится на каламбурах. Например, одна маска сообщает, что вышла газета под названием «Кузькина мать» (аллюзия на известное выражение Хрущева, которое в момент постановки спектакля было у всех на слуху – выражение «Мы вам покажем Кузькину мать» прозвучало из уст Н. Хрущева 12 октября 1960 года во время его выступления на 15-й Ассамблее ООН,у иностранцев вызвало замешательство; у российской интеллигенции – насмешливо-ироническое отношение к руководителю собственного государства), тогда как вторая маска с французским уточняет: «Чья маман?» В этой сцене комедии положений используется прием театра марионеток: в начале эпизода идет краткий музыкальный проигрыш, в котором маски-дипломаты двигаются как фигурки из музыкальной шкатулки, чокаясь бокалами; при упоминании имени Ленина все персонажи начинают неестественно, деревянно двигаться, очевидно, изображая приступ ужаса.
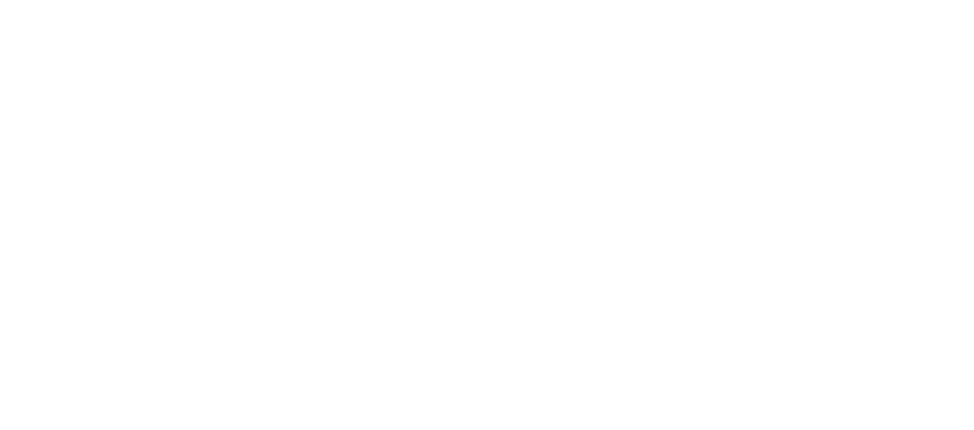
Под такое же музыкальное сопровождение двигаются как заводные куклы и другие маски-марионетки в эпизоде-притче о Сановнике и Чиновнике. Маска-Чиновник чеканно докладывает маске-Сановнику о бедственном положении страны, на что Сановник неизменно, как заведенный, отвечает приказом: «Налоги увеличить, деньги выжимать». В конце концов, когда Сановник спрашивает, как отреагировали на приказ крестьяне, его собеседник снова снимает маску и сообщает публике, что крестьяне смеются. Во время финального проигрыша (музыка при этом уже характерно «заедает») маски передают свое непрочное положение пантомимой — повторяя одно и то же движение, которое обычно сопровождает слова «запретить, постановить», и делают это до тех пор, пока не заканчивается их завод.
Ключевая маска в спектакле – маска Александра Федоровича Керенского, чья фигура появляется в нескольких сатирических эпизодах. Маска Керенского минималистична, закрывает только нос и небольшую часть щек. Эта маска создается и благодаря офицерской форме, в которую одет актер. С этим персонажем связано множество комических ситуаций и языковых коллизий. Так, в эпизоде «Падение 300-летнего Дома Романовых» Керенский выбирается из-под упавшего российского флага; как акробат взбирается на спину матроса (у того карикатурная маска с чрезвычайно длинным носом) и стоя на этой спине провозглашает стабильное положение нового правительства, и тут же падает и оказывается на шее матроса (таким образом материализуется языковое выражение «сесть на шею»).
Ключевая маска в спектакле – маска Александра Федоровича Керенского, чья фигура появляется в нескольких сатирических эпизодах. Маска Керенского минималистична, закрывает только нос и небольшую часть щек. Эта маска создается и благодаря офицерской форме, в которую одет актер. С этим персонажем связано множество комических ситуаций и языковых коллизий. Так, в эпизоде «Падение 300-летнего Дома Романовых» Керенский выбирается из-под упавшего российского флага; как акробат взбирается на спину матроса (у того карикатурная маска с чрезвычайно длинным носом) и стоя на этой спине провозглашает стабильное положение нового правительства, и тут же падает и оказывается на шее матроса (таким образом материализуется языковое выражение «сесть на шею»).
Итак, свои лозунги о равенстве и братстве он выкрикивает, уже сидя верхом на матросе, и заканчивая свою речь стоя, снова падает. Так реализуется еще одна сценическая метафора о и крушении нового правительства (вслед за падением царского режима). Современники спектакля отмечали, что не будь Керенский «спасителем России», он мог бы прославиться как акробат или ковёрный: на сцене он с лету делает балетный «шпагат» и уходит со сцены, сотворив «ласточку».
В этом же эпизоде появляются женские персонажи — энтузиастки, поддерживающие Керенского и «первая женская военная команда смерти», последняя сатирически обыгрывает реально существовавший батальон женщин-смертниц. Примечательно, что женские персонажи не имеют масок, в то время как все мужские персонажи, принадлежащие досоветскому миру (поп, унтер-офицер, сановник и капиталисты) носят маски, соответствующие их типажам.
Сцену с женским батальоном пронизывает прием языкового комизма, благодаря которому эпизод превращается в настоящий балаган: Керенский в своей речи требует от батальона полной самоотдачи, говоря о том, что надо «лечь грудью» на защиту страны от большевиков, и женщины, одна за другой, валятся на сцену, одна энтузиастка выбегает и, задрав юбки, падает перед Керенским — все это действо опошляет слова Керенского, и сам персонаж, словно выходя из своей роли, в отчаянии машет рукой. Характерно, что затем актер, играющий Керенского, выходит из своей роли и исполняет знаменитую по спектаклю «Добрый человек из Сезуана» песню-зонг Брехта «Власть исходит от народа» (пер. Е. Эткинда):
Власти ходят по дороге.
Кто лежит там на дороге?
Кто-то протянул тут ноги,
Труп какой-то на дороге,
Эй, да это ведь народ!
Рухнул трехсотлетний дом Романовых, но на шее у народа новая власть — диктатор Керенский во главе нового правительства.
Следует отметить, что Керенский появляется и далее, в эпизоде «Белая гвардия», но уже без маски. Правда, без словесной маски тут не обходится: в своем монологе он провозглашает себя главнокомандующим и требует, пока он будет думать о дальнейшей судьбе России, привести к нему Ульянова-Ленина.
Важной в этом эпизоде представляется фигура Пьеро, маска комедии дель арте, исполняющая романс Вертинского «То, что я должен сказать», написанный вскоре после Октябрьской революции, в конце 1917 года.
В этом же эпизоде появляются женские персонажи — энтузиастки, поддерживающие Керенского и «первая женская военная команда смерти», последняя сатирически обыгрывает реально существовавший батальон женщин-смертниц. Примечательно, что женские персонажи не имеют масок, в то время как все мужские персонажи, принадлежащие досоветскому миру (поп, унтер-офицер, сановник и капиталисты) носят маски, соответствующие их типажам.
Сцену с женским батальоном пронизывает прием языкового комизма, благодаря которому эпизод превращается в настоящий балаган: Керенский в своей речи требует от батальона полной самоотдачи, говоря о том, что надо «лечь грудью» на защиту страны от большевиков, и женщины, одна за другой, валятся на сцену, одна энтузиастка выбегает и, задрав юбки, падает перед Керенским — все это действо опошляет слова Керенского, и сам персонаж, словно выходя из своей роли, в отчаянии машет рукой. Характерно, что затем актер, играющий Керенского, выходит из своей роли и исполняет знаменитую по спектаклю «Добрый человек из Сезуана» песню-зонг Брехта «Власть исходит от народа» (пер. Е. Эткинда):
Власти ходят по дороге.
Кто лежит там на дороге?
Кто-то протянул тут ноги,
Труп какой-то на дороге,
Эй, да это ведь народ!
Рухнул трехсотлетний дом Романовых, но на шее у народа новая власть — диктатор Керенский во главе нового правительства.
Следует отметить, что Керенский появляется и далее, в эпизоде «Белая гвардия», но уже без маски. Правда, без словесной маски тут не обходится: в своем монологе он провозглашает себя главнокомандующим и требует, пока он будет думать о дальнейшей судьбе России, привести к нему Ульянова-Ленина.
Важной в этом эпизоде представляется фигура Пьеро, маска комедии дель арте, исполняющая романс Вертинского «То, что я должен сказать», написанный вскоре после Октябрьской революции, в конце 1917 года.
Здесь стоит сделать отступление и сказать, что комедией дель арте интересуются в начале XX века представители поэзии Серебряного века. Так, в 1906 году Блок пишет драму «Балаганчик», в которой в трагическом ключе переосмыслил маски комедии. В этом же году ее впервые поставит Мейерхольд в театре Комиссаржевской, где сам сыграет роль Пьеро. В 1916 году режиссер А. Я. Таиров поставит спектакль «Покрывало Пьеретты», а в 1922 году в Третьей Студии МХТ будет поставлен Вахтанговым спектакль «Принцесса Турандот» по пьесе Гоцци. Сам Любимов вспоминает, что в спектакле Вахтангова его поразила блестящая задумка, как красиво и элегантно «маски шутят».
Пьеро, обращаясь к зрительскому залу, исполняет романс-зонг, не столько пародируя, сколько стилизуя Вертинского, романс которого, посвященный юнкерам, погибшим в Москве во время Октябрьского вооруженного восстания и выражающий сочувствие врагам большевиков, звучит по-брехтовски антивоенно.
В эпизоде «Последнее заседание Временного правительства» маска Керенского появляется в последний раз — появляется в окружении масок членов правительства. Весь эпизод построен на языковых коллизиях и каламбурах. Например, используется игра со словом «положение» — у членов правительства «положения нет», у них «пиковое положение», но хотя бы пока «вертикальное». Заканчивается эпизод тем, что сцену, декламируя стихотворение Блока «Россия», сначала покидает пьяная маска-генерал, а затем и сам Керенский. Причем делает он это, как сказали бы в народе, окончательно «обделавшись». Эта языковая метафора снова материализуется: Керенский сидит на корточках, растерянно мнет бумажку. В следующий момент уже без мужской маски — переодевшись в женское платье, он предстает как «Александра Федоровна», его тезка-императрица (так же Шен Те перевоплощается в Шуи Та в спектакле Любимова «Добром человеке из Сезуана»). В этой сценке комически обыгрывается один из мифов, связанный с фигурой Керенского, который якобы перебрался за рубеж, будучи переодетым в женское платье, с белым фартуком — наряд сестры милосердия. Падение временного правительства также подано как сценическая метафора: из-под министров вытаскивают скамейку, и каждый из них, высоко подбросив портфель, по очереди падает на сцену, теряя свою власть.
Пьеро, обращаясь к зрительскому залу, исполняет романс-зонг, не столько пародируя, сколько стилизуя Вертинского, романс которого, посвященный юнкерам, погибшим в Москве во время Октябрьского вооруженного восстания и выражающий сочувствие врагам большевиков, звучит по-брехтовски антивоенно.
В эпизоде «Последнее заседание Временного правительства» маска Керенского появляется в последний раз — появляется в окружении масок членов правительства. Весь эпизод построен на языковых коллизиях и каламбурах. Например, используется игра со словом «положение» — у членов правительства «положения нет», у них «пиковое положение», но хотя бы пока «вертикальное». Заканчивается эпизод тем, что сцену, декламируя стихотворение Блока «Россия», сначала покидает пьяная маска-генерал, а затем и сам Керенский. Причем делает он это, как сказали бы в народе, окончательно «обделавшись». Эта языковая метафора снова материализуется: Керенский сидит на корточках, растерянно мнет бумажку. В следующий момент уже без мужской маски — переодевшись в женское платье, он предстает как «Александра Федоровна», его тезка-императрица (так же Шен Те перевоплощается в Шуи Та в спектакле Любимова «Добром человеке из Сезуана»). В этой сценке комически обыгрывается один из мифов, связанный с фигурой Керенского, который якобы перебрался за рубеж, будучи переодетым в женское платье, с белым фартуком — наряд сестры милосердия. Падение временного правительства также подано как сценическая метафора: из-под министров вытаскивают скамейку, и каждый из них, высоко подбросив портфель, по очереди падает на сцену, теряя свою власть.
Возвращаясь к теме словесной маски, я хотела бы затронуть процесс воссоздания в спектакле образа Владимира Ильича Ленина. Как отмечали современники, в интермедиях после многих значимых сцен звучали цитаты из произведений Ленина, портрет которого проецировался на боковые стены, прилегающие к сцене; одновременно звучал текст, зачитанный актером М. Штраухом. «Ленинское лицо время от времени вспыхивало на двух противоположных стенах зрительного зала, то строгое и спокойное, то саркастически улыбающееся, то открытое и доброе…»; раздавался ленинский голос, обращенный к бойцам революции, «убийственно ироничный и гневный, когда речь заходит о врагах…». Таким образом, отмечают очевидцы, рождалось необычайное чувство, что Ленин находился вместе со зрителями в том же зале.
Параллельно с масками, словно сошедшими с плакатов, в спектакле активно использовались сами плакаты. Ими было оформлено все здание театра. Плакат появляется и в эпизоде-притче, на сцене висит перевёрнутый портрет Николая II— характерный прием агиттеатра. Театр, наконец, рисует плакат, как сообщали критики, «как бы рожденный революционной улицей, когда перепуганный обыватель под насмешливые окрики бойцов читает ленинские декреты и замирает с застывшей физиономией», как блоковский «буржуй на перекрестке».
Итак, в спектакле Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» маски необычайно функциональны. Это разные маски – большей частью связанные с агитационным и сатирическим плакатом, в отдельных случаях (как в эпизоде с Пьеро) с комедией дель арте, это и словесные маски. Однако сатирическое соединяется в спектакле с драматическим и трагическим (сцены, основанные на постановке трех эпизодов из «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева, все пантомимы, отчасти песнь Пьеро). Связанный с масками юмор используется режиссером как способ преодоления драматических ситуаций. Гротеск, присущий художественному миру любимовского театра, — трагический, поскольку он указывает на конфликт личности и мира. Смех оттеняет драматизм происходящего; отсюда — многоликая буффонада спектакля «Десяти дней…».
Литература
Абелюк Е., Леенсон Е. Таганка: личное дело одного театра / Под ред. В. Гаевского. М.: НЛО, 2007.
Любимов Ю. Рассказы старого трепача. М.: Новости. 2001.
Новиков, Вл. Высоцкий. М.: Молодая гвардия. 2013. (ЖЗЛ)
Тынянов, Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука. 1977.
Шацков, В. Ненависть доброго человека // Комсомольская правда. 1963. 16 августа.
Шкловский, В. Слова Ленина обновляют театр // Известия. 1965. 17 апреля.
Щеглов Ю. Конструктивистский балаган Эрдмана // Проза. Поэзия. Поэтика. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 79 – 91.
Параллельно с масками, словно сошедшими с плакатов, в спектакле активно использовались сами плакаты. Ими было оформлено все здание театра. Плакат появляется и в эпизоде-притче, на сцене висит перевёрнутый портрет Николая II— характерный прием агиттеатра. Театр, наконец, рисует плакат, как сообщали критики, «как бы рожденный революционной улицей, когда перепуганный обыватель под насмешливые окрики бойцов читает ленинские декреты и замирает с застывшей физиономией», как блоковский «буржуй на перекрестке».
Итак, в спектакле Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» маски необычайно функциональны. Это разные маски – большей частью связанные с агитационным и сатирическим плакатом, в отдельных случаях (как в эпизоде с Пьеро) с комедией дель арте, это и словесные маски. Однако сатирическое соединяется в спектакле с драматическим и трагическим (сцены, основанные на постановке трех эпизодов из «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева, все пантомимы, отчасти песнь Пьеро). Связанный с масками юмор используется режиссером как способ преодоления драматических ситуаций. Гротеск, присущий художественному миру любимовского театра, — трагический, поскольку он указывает на конфликт личности и мира. Смех оттеняет драматизм происходящего; отсюда — многоликая буффонада спектакля «Десяти дней…».
Литература
Абелюк Е., Леенсон Е. Таганка: личное дело одного театра / Под ред. В. Гаевского. М.: НЛО, 2007.
Любимов Ю. Рассказы старого трепача. М.: Новости. 2001.
Новиков, Вл. Высоцкий. М.: Молодая гвардия. 2013. (ЖЗЛ)
Тынянов, Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука. 1977.
Шацков, В. Ненависть доброго человека // Комсомольская правда. 1963. 16 августа.
Шкловский, В. Слова Ленина обновляют театр // Известия. 1965. 17 апреля.
Щеглов Ю. Конструктивистский балаган Эрдмана // Проза. Поэзия. Поэтика. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 79 – 91.
Мария муханова
«Игрушечный» мотив в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя
«Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя остаются крайне сложной для интерпретации работой. Изучение символики и сквозных мотивов «Переписки» — один из возможных способов подступиться к анализу ее содержания. Мы рассмотрим группу мотивов, связанных с играми и игрушками, которые переплетены с темой «мертвых душ» не только в одноименной поэме, но и в других произведениях Гоголя.
В статье «Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»» Гоголь жалуется на «непривычку всматриваться в постройку сочинения» у критиков, то есть их неспособность анализировать текст как художественное произведение, а не только как совокупность идей. Мы попробуем «всмотреться в постройку» «Выбранных мест из переписки с друзьями», одной из самых сложных книг писателя. Книга обсуждается с момента публикации — сначала современниками и критиками, и до сих пор — исследователями. Исследования Ю.В. Манна, М. Вайскопфа, Е.Е. Дмитриевой раскрывают важные особенности поэтики Гоголя и «Выбранных мест», но мы сосредоточимся не на рецепции и истории изучения книги, а на конкретных мотивах и проанализируем текст с точки зрения одной из важных метафор.
Для начала стоит вспомнить, в чем эта сложность состоит. Прежде всего, «Выбранные места…» — книга, пронизанная религиозностью и созданная в тот период, когда Гоголь более чем когда-либо был обращен к Богу. После тяжелого душевного расстройства Гоголь наконец почувствовал себя лучше, и причиной тому послужила, по его мнению, вера: «Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать», — пишет он С.Т. Аксакову. «Переписка» во многом определяется этими религиозными открытиями Гоголя, который, впрочем, и до этого был глубоко верующим человеком. Здесь же роль религии возрастает, что местами приводит к появлению в тексте противоречий и темных мест. Религиозное начало проявляется даже в структуре «Выбранных мест…»: от исповеди, содержащейся в предисловии и «Завещании», Гоголь переходит к изложению своих взглядов и заканчивает статьей «Светлое воскресенье», которая по стилю близка уже к проповеди.
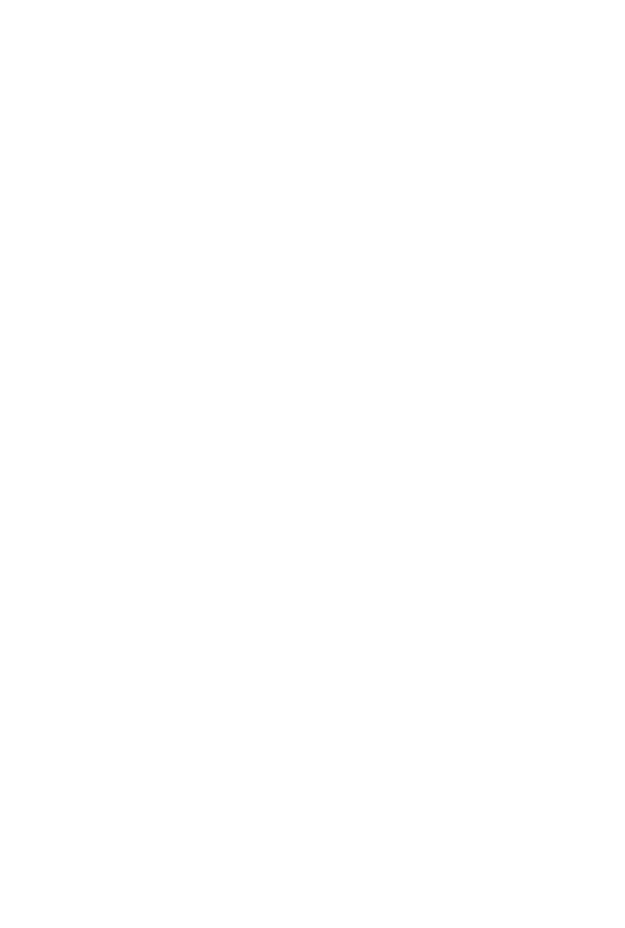
Гоголь считал «Выбранные места…» книгой чрезвычайно важной и нужной для современного ему общества, поэтому торопился с ее изданием. Но реакция последовала не соответствующая этим ожиданиям: в «Переписке» увидели скорее реакционный манифест верности государству, чем наставление мудрого учителя.
Кроме того, сложностью отличается и структура книги, важность которой отмечал и сам Гоголь. Не допущенные цензурой статьи («Несколько слов о нашей церкви и духовенстве», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России» и т. д.) невозможно было, с точки зрения писателя, просто выбросить из текста: «последовательность и связь — все пропало». То есть каждая статья, безусловно, находится в неразрывной связи с другими, а значит, сборник публицистических текстов необходимо анализировать с той же внимательностью, что и художественное произведение.
Одним из способов этого анализа является мотив игрушки и игрушечности в «Выбранных местах…», который часто возникает в связи антитезой жизнь/смерть, или даже жизнь/«мертвечина» — этим понятием расширяется тема мертвых душ, которая выходит далеко за пределы обсуждения его поэмы.
Начнем с прямых упоминаний всего «игрушечного», а затем перейдем к косвенным совпадениям с этим общим мотивом на уровне сюжета и его структуры. Под игрушкой в переносном смысле слова Гоголь понимает чаще всего жизнь и различные ее аспекты, которые недостаточно серьезно воспринимаются людьми. То есть игрушка хотя и не является причиной зла в России, но служит символом невнимательного к нему отношения.
Примеры подобного использования слова «игрушка» часто относится к литературе и в частности поэзии. Один из таких примеров относится к загадочной «Прощальной повести», которую Гоголь называет лучшим и самым главным своим произведением, но в материальном существовании которой у исследователей нет уверенности. «Может быть, Прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны», — пишет Гоголь (Т. 8, С. 221).
«Одиссее» в связи с переводом Жуковского Гоголь уделяет значимое место в «Выбранных местах…», и здесь мотив игрушки также связан с отношением к жизни: задачей Гомера, как пишет Гоголь, было «…не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку» (Т. 8, С. 241). Игрушка в этом случае противопоставлена мудрости, которую излучает «Одиссея». Далее Гоголь советует литераторам «по тех пор не приниматься за перо, пока всё в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать всё в памяти». К метафорическому смыслу детства и младенчества в «Выбранных местах…» мы еще обратимся.
Предостережение тем, кто относится к жизни как к игре, сближает книгу с комедией «Игроки», в которой мотив «игры—жизни» развит Гоголем более подробно. Персонажи «Игроков» манифестируют неразличение игры и жизни, то сравнивая карточную игру с военным делом, то объясняя ее принципы в терминах экономики. И хотя для компании Утешительного в финале пьесы наступает триумф, фраза Ихарева о том, что всегда «под боком отыщется плут, который тебя переплутует» (Т. 5, С. 101) подсказывает читателю, что эта жизненная стратегия в конце концов ведет к проигрышу.
Еще одна «игрушка» в концепции Гоголя — жанр басни, заново открытый Крыловым. Он «выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку — и в сей басне умел сделаться народным поэтом» (Т. 8, С. 392). В таком контексте игрушка приобретает несколько иной оттенок: она обозначает не способ обращения с жизнью, а нечто пустое, но в то же время не лишенное смысла, ведь у Крылова получилось, взяв старый и кажущийся непригодным жанр, стать в нем мастером.
Литература в «Выбранных местах…» занимает не менее важное место, чем политическое и общественное устройство, которое кажется изначально основной темой книги. В развитии литературы как будто кроется разгадка всего существования человечества, и вместе с цивилизацией взрослеет литература. На микроуровне это проявляется и в том, как тема литературного творчества развивается в «Выбранных местах…»: в названиях статей изначально содержится вся история развития литературы. Гоголь начинает говорить о творчестве и его воздействии на душу в «Завещании», причем с неизвестной никому «Прощальной повести», а затем берется строить «дом» литературы заново. Сначала нужно заново изобрести порядок обращения со словом — это статья «О том, что такое слово», которая находит продолжение в «Чтениях русских поэтов перед публикой». Далее следует статья о древней, но все еще совершенной «Одиссее», а после этого — статьи «О лиризме наших поэтов» и «Предметы для лирического поэта в нынешнее время». И, наконец, завершает эту тему статья «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», где словом «наконец» выделена ее долгожданность и характер заключения. Литература, таким образом, в «Выбранных местах…» представлена как игрушка с глубоким замыслом, данная человеку для осознания своего места в мире.
Само сочетание «детская игрушка», использованное по отношению к жанру басни, позволяет связать категорию игрушечности с другими мотивами «Переписки», а именно детством, младенчеством, юностью и другими схожими категориями, которые часто использует Гоголь для обозначения своего взгляда на развитие общества и его историю.
«Игрушечность» адресатов «Выбранных мест...» тоже далеко не безобидна. Гоголь в множестве случаев использует метафору душевной пустоты при внешней живости, которая может восходить именно к образу игрушки, которая напоминает человека, но на самом деле мертва. Приведем несколько примеров этому:
В этой антитезе раскрывается и связь «Выбранных мест…» с малороссийским вертепом. М.М. Бахтин указывал на то, что вне народной традиции невозможно раскрыть смысл не только напрямую связанных с ней «Вечеров на хуторе близ Диканьки», но и более поздних произведений Гоголя: исследователь обращает внимание, среди прочего, на гротескность, фамильярный разговор с читателем, карнавальность, а также «бессмертность», вечность гоголевского смеха.
Связь с вертепным театром для Гоголя особенно важна как для писателя, собиравшего на первых этапах своего творчества детали малороссийской культуры и использовавшего народные формы, структуры и сюжеты в «высокой» литературе. Для Украины начала XIX века вертепные представления еще оставались актуальными, и Гоголю эта форма театра также была знакома. Вертеп служит материалом для сравнения в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок» (Т. 2, С. 229).
В «Выбранных местах…» влияние вертепа можно проследить, во-первых, на уровне противопоставления высокого и низкого, живого и мертвого как мира реального и игрушечного. Строение гоголевской книги сравнимо с устройством вертепа, на верхнем и нижнем ярусах которого разыгрываются соответственно «высокие» сцены Рождества Христова и «низкие» комические сценки. «Выбранные места…» также демонстрируют четкое различие и в то же время взаимосвязь высокого, религиозного бытия человека и его земной жизни. Особенно это проявляется в заключительной статье книги, «Светлом воскресении», где Гоголь наряду с высшим смыслом праздника делает акцент и на комичных его проявлениях: «Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас всё есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем»» (С. 410). Этим же «необыкновенным соединением самых высоких слов с самыми низкими и простыми» (С. 374) восхищается Гоголь в поэзии Державина.
Во-вторых, мотив человека-игрушки, безвольного и руководимого некоторой чужой волей, к тому же наделенного типичными чертами, также сближает «Выбранные места…» с вертепным театром. «Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле» (С. 341), — пишет Гоголь.
Но влияние на книгу можно проследить и на уровне системы «действующих лиц» книги. Упомянутый Гоголем в «Повести о том…» царь Ирод, персонаж вертепа, полностью противоположен тому, как видит фигуру государя писатель в «Переписке»: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом того на земле, который сам есть любовь» («О лиризме наших поэтов», С. 256); «Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякой раз, как только излетает из уст их слово царь» (С. 256). Призыв царю стать образом Бога на земле особенно подчеркивает глубокое различие между идеальным правителем и Иродом, который противился Божьей воле. Кто же в этом вертепе Гоголь? Возможно, и сам он — не кукловод, а Антон, ведущий свою упрямую козу — Россию.
Мотив игрушки и игры, таким образом, оказывается тесно переплетен с другими метафорами и антитезами, которые Гоголь использует в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и их анализ позволяет проследить влияние народной малороссийской культурой на полные мистицизма размышления автора. Игрушка появляется в книге и как символ детства, и как обозначение несерьезного обозначения к жизни, что показывает поучительный характер «Выбранных мест». Кроме того, мотив игрушки позволяет ввести сравнение с вертепным театром, которому «Выбранные места» вторят по структуре и различению высокого и низкого начал.
Литература
Барабаш Ю.Я. Гоголь и традиции староукраинского театра (два этюда) // Н.В. Гоголь и театр: III гоголевские чтения: Сб. докл. М.: Книжн. дом «Университет, 2004. С. 25-39.
Бахтин М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1952. Т. 8. Статьи.
Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 645–649.
Манн Ю.В. Гоголь. Книга третья. Завершение пути. 1845–1852. М., 2012.
Кроме того, сложностью отличается и структура книги, важность которой отмечал и сам Гоголь. Не допущенные цензурой статьи («Несколько слов о нашей церкви и духовенстве», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России» и т. д.) невозможно было, с точки зрения писателя, просто выбросить из текста: «последовательность и связь — все пропало». То есть каждая статья, безусловно, находится в неразрывной связи с другими, а значит, сборник публицистических текстов необходимо анализировать с той же внимательностью, что и художественное произведение.
Одним из способов этого анализа является мотив игрушки и игрушечности в «Выбранных местах…», который часто возникает в связи антитезой жизнь/смерть, или даже жизнь/«мертвечина» — этим понятием расширяется тема мертвых душ, которая выходит далеко за пределы обсуждения его поэмы.
Начнем с прямых упоминаний всего «игрушечного», а затем перейдем к косвенным совпадениям с этим общим мотивом на уровне сюжета и его структуры. Под игрушкой в переносном смысле слова Гоголь понимает чаще всего жизнь и различные ее аспекты, которые недостаточно серьезно воспринимаются людьми. То есть игрушка хотя и не является причиной зла в России, но служит символом невнимательного к нему отношения.
Примеры подобного использования слова «игрушка» часто относится к литературе и в частности поэзии. Один из таких примеров относится к загадочной «Прощальной повести», которую Гоголь называет лучшим и самым главным своим произведением, но в материальном существовании которой у исследователей нет уверенности. «Может быть, Прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны», — пишет Гоголь (Т. 8, С. 221).
«Одиссее» в связи с переводом Жуковского Гоголь уделяет значимое место в «Выбранных местах…», и здесь мотив игрушки также связан с отношением к жизни: задачей Гомера, как пишет Гоголь, было «…не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку» (Т. 8, С. 241). Игрушка в этом случае противопоставлена мудрости, которую излучает «Одиссея». Далее Гоголь советует литераторам «по тех пор не приниматься за перо, пока всё в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать всё в памяти». К метафорическому смыслу детства и младенчества в «Выбранных местах…» мы еще обратимся.
Предостережение тем, кто относится к жизни как к игре, сближает книгу с комедией «Игроки», в которой мотив «игры—жизни» развит Гоголем более подробно. Персонажи «Игроков» манифестируют неразличение игры и жизни, то сравнивая карточную игру с военным делом, то объясняя ее принципы в терминах экономики. И хотя для компании Утешительного в финале пьесы наступает триумф, фраза Ихарева о том, что всегда «под боком отыщется плут, который тебя переплутует» (Т. 5, С. 101) подсказывает читателю, что эта жизненная стратегия в конце концов ведет к проигрышу.
Еще одна «игрушка» в концепции Гоголя — жанр басни, заново открытый Крыловым. Он «выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку — и в сей басне умел сделаться народным поэтом» (Т. 8, С. 392). В таком контексте игрушка приобретает несколько иной оттенок: она обозначает не способ обращения с жизнью, а нечто пустое, но в то же время не лишенное смысла, ведь у Крылова получилось, взяв старый и кажущийся непригодным жанр, стать в нем мастером.
Литература в «Выбранных местах…» занимает не менее важное место, чем политическое и общественное устройство, которое кажется изначально основной темой книги. В развитии литературы как будто кроется разгадка всего существования человечества, и вместе с цивилизацией взрослеет литература. На микроуровне это проявляется и в том, как тема литературного творчества развивается в «Выбранных местах…»: в названиях статей изначально содержится вся история развития литературы. Гоголь начинает говорить о творчестве и его воздействии на душу в «Завещании», причем с неизвестной никому «Прощальной повести», а затем берется строить «дом» литературы заново. Сначала нужно заново изобрести порядок обращения со словом — это статья «О том, что такое слово», которая находит продолжение в «Чтениях русских поэтов перед публикой». Далее следует статья о древней, но все еще совершенной «Одиссее», а после этого — статьи «О лиризме наших поэтов» и «Предметы для лирического поэта в нынешнее время». И, наконец, завершает эту тему статья «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», где словом «наконец» выделена ее долгожданность и характер заключения. Литература, таким образом, в «Выбранных местах…» представлена как игрушка с глубоким замыслом, данная человеку для осознания своего места в мире.
Само сочетание «детская игрушка», использованное по отношению к жанру басни, позволяет связать категорию игрушечности с другими мотивами «Переписки», а именно детством, младенчеством, юностью и другими схожими категориями, которые часто использует Гоголь для обозначения своего взгляда на развитие общества и его историю.
- «Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа всё, что нужно для мужа?» («О том, что такое слово», С. 230);
- «Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая то, что их мысли еще глупые ребенки, вот и всё» («О лиризме наших поэтов», С. 251);
- «Всё в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», С. 370);
- «Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов» (С. 407);
- «Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот де<нь> и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество, и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу?» («Светлое воскресенье», С. 415—416).
«Игрушечность» адресатов «Выбранных мест...» тоже далеко не безобидна. Гоголь в множестве случаев использует метафору душевной пустоты при внешней живости, которая может восходить именно к образу игрушки, которая напоминает человека, но на самом деле мертва. Приведем несколько примеров этому:
- «…выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья» («Женщина в свете», С. 225);
- «Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему» («О том же» [О духовенстве и церкви], С. 248);
- «Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куда поведут ее» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», С. 269);
- «…дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях» (С. 270);
- «…пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, — мертвечина будет всё, что ни напишет перо твое» («Четыре письма…», С. 297);
- «Не подобьтесь в этом случае мертвому закону, но живому богу, который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни» («Что такое губернаторша», С. 315–316, курсив авторский);
- «У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управленья собою. Никто из вас не господин себе» («Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России», С. 338).
В этой антитезе раскрывается и связь «Выбранных мест…» с малороссийским вертепом. М.М. Бахтин указывал на то, что вне народной традиции невозможно раскрыть смысл не только напрямую связанных с ней «Вечеров на хуторе близ Диканьки», но и более поздних произведений Гоголя: исследователь обращает внимание, среди прочего, на гротескность, фамильярный разговор с читателем, карнавальность, а также «бессмертность», вечность гоголевского смеха.
Связь с вертепным театром для Гоголя особенно важна как для писателя, собиравшего на первых этапах своего творчества детали малороссийской культуры и использовавшего народные формы, структуры и сюжеты в «высокой» литературе. Для Украины начала XIX века вертепные представления еще оставались актуальными, и Гоголю эта форма театра также была знакома. Вертеп служит материалом для сравнения в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок» (Т. 2, С. 229).
В «Выбранных местах…» влияние вертепа можно проследить, во-первых, на уровне противопоставления высокого и низкого, живого и мертвого как мира реального и игрушечного. Строение гоголевской книги сравнимо с устройством вертепа, на верхнем и нижнем ярусах которого разыгрываются соответственно «высокие» сцены Рождества Христова и «низкие» комические сценки. «Выбранные места…» также демонстрируют четкое различие и в то же время взаимосвязь высокого, религиозного бытия человека и его земной жизни. Особенно это проявляется в заключительной статье книги, «Светлом воскресении», где Гоголь наряду с высшим смыслом праздника делает акцент и на комичных его проявлениях: «Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас всё есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем»» (С. 410). Этим же «необыкновенным соединением самых высоких слов с самыми низкими и простыми» (С. 374) восхищается Гоголь в поэзии Державина.
Во-вторых, мотив человека-игрушки, безвольного и руководимого некоторой чужой волей, к тому же наделенного типичными чертами, также сближает «Выбранные места…» с вертепным театром. «Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле» (С. 341), — пишет Гоголь.
Но влияние на книгу можно проследить и на уровне системы «действующих лиц» книги. Упомянутый Гоголем в «Повести о том…» царь Ирод, персонаж вертепа, полностью противоположен тому, как видит фигуру государя писатель в «Переписке»: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом того на земле, который сам есть любовь» («О лиризме наших поэтов», С. 256); «Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякой раз, как только излетает из уст их слово царь» (С. 256). Призыв царю стать образом Бога на земле особенно подчеркивает глубокое различие между идеальным правителем и Иродом, который противился Божьей воле. Кто же в этом вертепе Гоголь? Возможно, и сам он — не кукловод, а Антон, ведущий свою упрямую козу — Россию.
Мотив игрушки и игры, таким образом, оказывается тесно переплетен с другими метафорами и антитезами, которые Гоголь использует в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и их анализ позволяет проследить влияние народной малороссийской культурой на полные мистицизма размышления автора. Игрушка появляется в книге и как символ детства, и как обозначение несерьезного обозначения к жизни, что показывает поучительный характер «Выбранных мест». Кроме того, мотив игрушки позволяет ввести сравнение с вертепным театром, которому «Выбранные места» вторят по структуре и различению высокого и низкого начал.
Литература
Барабаш Ю.Я. Гоголь и традиции староукраинского театра (два этюда) // Н.В. Гоголь и театр: III гоголевские чтения: Сб. докл. М.: Книжн. дом «Университет, 2004. С. 25-39.
Бахтин М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1952. Т. 8. Статьи.
Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 645–649.
Манн Ю.В. Гоголь. Книга третья. Завершение пути. 1845–1852. М., 2012.
17.01.2018
