«Орфические игры» в Электротеатре
Шестидневный сериал и театральный практикум
Авторы: Виктория Антонова, Станислава Малышева, Мария Муханова
[Заметки]
Шестидневный показ «Орфических игр» (16–21 октября 2018) в Электротеатре завершился дискуссией между режиссерами, композиторами, актерами и участниками театроведческого семинара, посвященного спектаклю. 11 участников в течение недели работали над тезисами для устного рецензирования и размышляли о судьбе театральной критики под руководством Ольги Федяниной, Екатерины Костриковой и Кристины Матвиенко.
Участницы семинара делятся своими наблюдениями, многие из которых не были озвучены в финальной дискуссии. Бонус — монолог художественного руководителя Электротеатра Бориса Юхананова.
Участницы семинара делятся своими наблюдениями, многие из которых не были озвучены в финальной дискуссии. Бонус — монолог художественного руководителя Электротеатра Бориса Юхананова.
«Панк-макраме» участников МИРа Бориса Юхананова невозможно описать и проанализировать одновременно со всех сторон – именно поэтому для финальной дискуссии был выбран формат короткой устной рецензии. Каждому из нас предложили сконцентрироваться на одной главной мысли, связанной с «Орфическими играми», и за пяти минут ее обосновать. В течение этих шести дней я обращала наибольшее внимание на музыкальное оформление спектакля, которым занимались композиторы Владимир Горлинский, Дмитрий Курляндский и Кирилл Широков.
- Вся речь героев спектакля музыкальна, реплики накладываются друг на друга, как в обычном, несценическом диалоге. Музыка здесь рассматривается как естественное состояние звука, которое нужно расслышать, при этом совмещаются звуки естественные и урбанистические. Цивилизация движется вперед, создает возможность постоянного перемещения (с помощью поездов, которые движут сюжетом пьес Ануя и Кокто), но остаются эрос и танатос, стремление встретить любовь и стремление покончить с собой, выпив яд или бросившись под поезд. Музыке проще всего включиться в современность, она остается практически неизменной по своей природе ( олицетворением этого служат уличные музыканты, чья задача веками не меняется).
- Шепот – это еще один из повторяющихся звуковых рядов, связанный с мотивом тайны, мистерии, разговора о недоступном. В каждой игре (действии) Эвридика разрушает порядок, гармонию, спокойствие, созданные Орфеем.
- По длительности спектакль можно сравнить с представлением в античном театре, состязанием трагиков или комиков, которое длилось весь день; в Орфических играх трагедия и комедия смешаны, но зритель погружен в процесс, и это приближает современный театр к древнему больше, чем аутентичные декорации, костюмы, речь.
- Во второй день к звуковым эффектам подключаются песни, и они буквально вытесняют речь. Певец больше не античный рапсод, но пение носит ритуальный характер: группу, в которой играет Орфей, можно сравнить с хором в древнегреческом театре, эмоционально поясняющим события на сцене. Как менялась со временем роль хора, так и здесь певцы могут становиться героями, и наоборот. Особенно важно, когда в исполнении песен участвует Орфей, хотя с ним пытается говорить Эвридика. Певец (шире — любой художник) тянется к своему делу, и никогда не известно, в какой момент ему захочется вернуться к земному.
- Примечательны в этом плане и сцены, в которых до Орфея пытаются докричаться, как будто крича с горы вниз. Так же и споры о любви вызывают крик, скандал — причем в этом случае докричаться уже пытается сам Орфей, так как для него это важнее обычного разговора. И в горах, и в больнице, и на вокзале есть звуки, которые мешают и даже перебивают — свист ветра, давящий шум и звон, звуки стройки и распиливание кирпича. В больничной сцене музыка напрямую связана с жизнью и телом: под удары барабанов измеряют давление, а когда они усиливаются, начинаются роды (причем ребенка берет на руки именно барабанщик).
- Орфей говорит отцу, что каждый день слушает одно и то же, но это вскрывает и позицию зрителя, который несколько дней слушает разные вариации одних и тех же текстов с новым визуальным рядом. Герои все это время не скрывают, что находятся внутри представления, а реальность описывается теми же словами, что и спектакль (декорации, герои и т.д.).
- Контраст между нарастающим шумом и тишиной раскрывают метафору жизни как шума, который отвлекает от чего-то более важного, а смерть становится долгожданной тишиной (актеры делают акцент на реплике о смерти как освобождении). Повторяющийся звук капающей воды напоминает о близости конца, о том, что все это уже было и скоро начнется заново, но уже с другими. Это знак уходящего времени, который в то же время отражает цикличность, бесконечное повторение — вода не перестанет капать, когда жизнь одного человека закончится.
- Громкий, неестественный смех в неожиданных ситуациях звучит как требование прислушаться и не дать словам просто пролететь мимо, и это удачный прием для спектакля, где так много звуков, которые зритель привык не замечать. Шум стройки можно назвать саундтреком Москвы, на них перестают обращать внимание, но они формируют реальность и заставляют кричать на улице так же, как герои спектакля, чтобы просто быть услышанным.
- Вообще «Орфические игры» можно назвать сборником неприятных звуков: лязгание стекла, крики птиц, давящий звон, громкие удары по пианино, крик «Тишина!» следователей, фальшивое чтение «Памятника», внезапная хлопушка, жужжание мух, хрипы. Все это контрастирует с довольно приятным изначально пропеванием отдельных звуков, шумом воды. Композиция постановки отражена на уровне звука: раздражение от звуков у зрителя рифмуется с раздражением от очередных повторов одного и того же текста, неизбежной и приятной усталостью от всего спектакля.
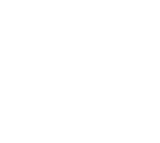
Мария Муханова
Орфические игры — шестидневный перформанс, который делится на 12 частей (каждый день включает в себя дневную и вечернюю часть), а каждая часть — на эпизоды, которых в итоге получается 33. Каждый из эпизодов мы можем рассматривать и как самостоятельный «продукт», и как часть одной общей истории. Первый случай оказывается удобным не только по практическим причинам (довольно сложно освободить шесть дней своей жизни для театра), но и с точки зрения зрителя, который может анализировать постановку имманентно, не связывать эпизоды друг с другом и не искать внутренних отсылок и аллюзий.
Однако такой анализ оказывается недостаточным, потому что каждый эпизод оказывается связан с другими порой неожиданным образом. Кроме того, эпизоды становятся набором культурных кодов и отсылок не только друг к другу, но к культуре повседневности.
Однако такой анализ оказывается недостаточным, потому что каждый эпизод оказывается связан с другими порой неожиданным образом. Кроме того, эпизоды становятся набором культурных кодов и отсылок не только друг к другу, но к культуре повседневности.
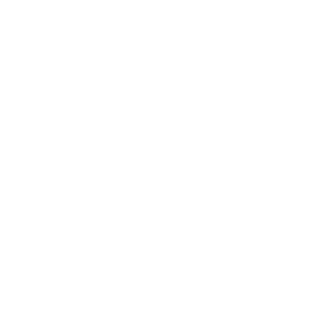
Станислава Малышева
В каждом «мире» детали могут меняться, но сюжетная линия неизменна
- Сама структура спектакля становится аллюзией на популярный для научно-фантастического жанра сюжет параллельных миров и вселенных. Яркий пример — мультсериал «Рик и Морти», где действие происходит в параллельных реальностях, и сами герои могут взаимодействовать и влиять на каждый мир. Важно, что в Орфических играх такие вселенные тоже взаимопроницаемы и взаимосвязаны. Миры сосуществуют, но ни один из них не занимает доминирующую позицию.
- Связующими мотивами становятся звуки городской среды, фигуры «инопланетных» существ. Кроме того, важное место занимает повторяющийся мотив воды: это не только видеоряд на фоне действия, но и реплики героев (Орфей: «В этих строках я слышу себя, как в раковине слышишь море»), а иногда само пространство сцены становится водным, переходным (река Лета).
- Другой темой становится процесс урбанизации. Создатели как будто не дают оценку этому процессу, а только констатируют, описывая его минусы и плюсы. «Неживая» обстановка жилых зон выражается в бесконечных и однотипных панельках, спальные кварталы становятся аналогом Ада. Все это противопоставлено культурному развитию. Образ героя в костюме Adidas, внешне очень похожего на рэпера Хаски, как будто становится декламацией развития искусства и творчества в любых условиях.
- Упоминание знаменитых деятелей поп-культуры (а точнее, их творчества) — одна из попыток актуализировать миф в разные эпохи. Vogue Мадонны, Максим Леонидов, Хаски, Человек-паук — про разное время, про разные социальные группы. Миф как будто живет вне времени и актуален для всех.
- Главным повторяющимся мотивом является сама идея мифа. В каждом «мире» детали могут меняться, но сюжетная линия неизменна — возникает тема судьбы и невозможности избежать того, что уже предначертано. Например, мужчина в образе смерти разворачивает веревку, «рисуя» спираль: концептуальный ряд вокруг веревки — несвобода, скованность (герой перевязывает себе горло), а сама спираль — символ бесконечной повторяемости.
- Кажется, что все сводится к этой идее круга, который невозможно разрушить. В некоторых реальностях герои осознают свое положение, знают, что их ждет, но не могут ничего изменить. Здесь происходит и выход за рамки спектакля, так как герои понимают, что они актеры. Думаю, что это можно назвать их эволюцией.
Аннотация к «Орфическим играм» гласит: «В основе проекта миф об Орфее и принцип панк-макраме, позволяющий перемежать друг с другом разнообразные стили, модусы существования и технологии» . Я ставила перед собой задачу исследовать природу «панк-макраме» – откуда оно берется и в чем состоит его функция? Для начала требуется обратиться к трактовке, которую художники дали проекту: «Разомкнутое пространство мифа». Это термин А.А. Васильева, который был создан режиссером в 1970-е, в период работы с пьесами драматургов «новой волны». С тех пор понятие разомкнутого пространства стало неотъемлемой частью его режиссерского метода, хотя впервые было применено по отношению к драматургии Л.С. Петрушевской, В.И. Славкина, Н.Н. Садур и проч. Для объяснения этого термина я приведу пример самого Василева. Обычную, рутинную жизнь людей можно назвать разомкнутым существованием. Однако во время войны, когда противопоставлены два враждующих лагеря, всё происходящее подчиняется некоторым предлагаемым обстоятельствам, оказывается детерминированным. Как только война заканчивается, «жизнь размыкается, выходит за пределы круга» и принимает разнородные формы, льётся в непрерывном потоке.
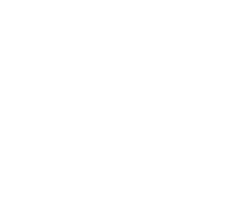
Виктория Антонова
«Разомкнутая структура» возникает тогда, когда непрерывное движение жизни может бесконечно нестись в любом направлении. Жизнь принимает присущие ей формы потока. В разговоре об «Орфических играх» надо всегда помнить об основополагающем противопоставлении: замкнутая—разомкнутая структура.
Итак, в основе проекта лежит некоторый драматический материал, а именно пьесы Ж. Кокто и Ж. Ануя. Они осмыслены группой художников и, главное, абсолютно разомкнуты. Что это значит? Текст не ограничен рамками конфликта и его разрешения, делением текста на части и сюжетные линии. Разомкнутая структура – это, как уже говорилось, структура потока – непредсказуемого, стихийного. В потоке всегда есть несколько параллельных движений, что мы и видим в спектакле: даже сцены из разных пьес могут соседствовать и продолжать друг друга. Однако это не отменяет стихийную природу проекта: разомкнутая структура драматического материала может реализоваться в любом виде, форме или секторе. Например, один и тот же диалог Орфея и Эвридики «Как долго ты шел…» может происходить в больнице, в ресторане, в Аиде и т.д. Создаётся ощущение, будто существует бесконечное количество секторов, направлений, в которых может разомкнуться текст и реализоваться сюжет. Это говорит нам не о проблеме интерпретации мифа, а о природе разомкнутости, заявленной в спектакле. Кроме того, хаотичная, стихийная реализация сюжета меняет роль зрителя. Мы становимся почти участниками процесса, когда происходит прямой контакт актера и зрителя, или когда импровизация актера направлена на зал. С другой стороны, стихия может предельно отдалиться от нас, и тогда зритель теряет «точку концентрации» в спектакле, перестает понимать, что происходит на сцене. В такие моменты необходимость в зрительском присутствии практически исчезает, и зал как будто становится пассивным наблюдателем некоторого ритуала.
1. Уже давно миф приобрел константную форму, он детерминирован, максимально сужен и не допускает никаких вольностей, кроме вариаций разных авторов. В сознании человека миф – это аксиома. Проект Б.Ю. Юхананова – это попытка «открыть ящик Пандоры» и увидеть, как стихия мифа выльется в пространство 21-го века. Художник вызволяет эту неуправляемую, неорганизованную силу и выпускает её в нашу жизнь.
2. Как это происходит согласно Васильеву? Миф ложится в основу текстов Кокто и Ануя. Затем «содержательная структура» вынимается из пьес и накладывается на спектакль, входит в русло современности и обретает никому не известные заранее формы. В этом отношении крайне любопытно узнать, как происходил процесс работы над проектом. Возможно, участники находятся в условно намеченном пространстве, и именно потенциал мифа (его стихийность) ведёт их. Благодаря тому, что этот проект существовал именно в октябре 2018 г., он выглядел определенным образом. Возможно, если мы увидим следующий показ в апреле 2019 г., спектакль приобретет другие формы. На сцене существует «зыбкое» пространство мифа, которое сильно зависит нашей жизни, ведь миф происходит «здесь и сейчас».
3. Отталкиваясь от вышесказанного, хочется проанализировать сквозной мотив воды, который можно трактовать в разных модусах. Главная функция этого образа заключается в стихийной природе воды, которую перенимает этот спектакль. То, что происходит на сцене, волнами «накатывает» на нас: в «прилив» стихийная сила находится максимально близко к зрителю во всех модальностях: в физическом плане (предельная близость актёра/героя к зрителю), в коммуникативном (необходимость диалога со зрителем), даже в ментальном (некоторые образы, категории настолько приближаются к нам, что выливаются в матрицы поп-культуры 21-го века).
4. Важно говорить не только о разомкнутости, но и о процессуальности в «Орфических играх». Зрителю даже не обязательно знать, каков будет итог шестидневного действа. Гораздо важнее следить за процессом: за этой буйной стихией, которая реализует сюжеты об Орфее и Эвридике.
1. Уже давно миф приобрел константную форму, он детерминирован, максимально сужен и не допускает никаких вольностей, кроме вариаций разных авторов. В сознании человека миф – это аксиома. Проект Б.Ю. Юхананова – это попытка «открыть ящик Пандоры» и увидеть, как стихия мифа выльется в пространство 21-го века. Художник вызволяет эту неуправляемую, неорганизованную силу и выпускает её в нашу жизнь.
2. Как это происходит согласно Васильеву? Миф ложится в основу текстов Кокто и Ануя. Затем «содержательная структура» вынимается из пьес и накладывается на спектакль, входит в русло современности и обретает никому не известные заранее формы. В этом отношении крайне любопытно узнать, как происходил процесс работы над проектом. Возможно, участники находятся в условно намеченном пространстве, и именно потенциал мифа (его стихийность) ведёт их. Благодаря тому, что этот проект существовал именно в октябре 2018 г., он выглядел определенным образом. Возможно, если мы увидим следующий показ в апреле 2019 г., спектакль приобретет другие формы. На сцене существует «зыбкое» пространство мифа, которое сильно зависит нашей жизни, ведь миф происходит «здесь и сейчас».
3. Отталкиваясь от вышесказанного, хочется проанализировать сквозной мотив воды, который можно трактовать в разных модусах. Главная функция этого образа заключается в стихийной природе воды, которую перенимает этот спектакль. То, что происходит на сцене, волнами «накатывает» на нас: в «прилив» стихийная сила находится максимально близко к зрителю во всех модальностях: в физическом плане (предельная близость актёра/героя к зрителю), в коммуникативном (необходимость диалога со зрителем), даже в ментальном (некоторые образы, категории настолько приближаются к нам, что выливаются в матрицы поп-культуры 21-го века).
4. Важно говорить не только о разомкнутости, но и о процессуальности в «Орфических играх». Зрителю даже не обязательно знать, каков будет итог шестидневного действа. Гораздо важнее следить за процессом: за этой буйной стихией, которая реализует сюжеты об Орфее и Эвридике.
Монолог Бориса Юхананова, завершивший дискуссию об «Орфических играх»
Записал Миша Иткин
Записал Миша Иткин
I
Юхананов: … Я говорю сейчас с вами, как с семинаром – со зрителем я бы так, конечно, не стал говорить. Композитор, например, слушает, а не видит, художник – видит, но не слышит. Что же происходит с критиком? Он не видит и, по сути, не слышит. Вот простая вещь – природа существования актера. Если вы не разберетесь в том, что существование актера на сцене – более сложная, многослойная субстанция, в которой надо беспощадно точно разбираться, а различению этого надо посвятить практическое время, – если все это вы передавите непроверенными способами своего восприятия, вы перестанете быть мастерами восприятия (а собственно, критик, в первую очередь, и есть мастер восприятия). Конечно, мы привыкли синтезировать, но что мы внутри себя синтезируем? – собственное сознание, не более того. Когда мы воспринимаем театр, мы насилуем восприятие или облегчаем, потому что все становится вроде бы ясным. В этот момент наша внутренняя система восприятия просто отдыхает. Когда люди полюбили ездить в Турцию, то стали называть это «овощной тип отдыха». На территории этой сложной системы восприятия происходящего нельзя быть овощем.
А как учиться воспринимать театр, особенно такой сложный, какой вам пришлось сейчас пережить? (Пауза.) Вот я и задался сейчас таким вопросом. (Пауза.) Что из чего делается? Ну, во-первых, если вы точно понимаете, как это сделано, тогда вы уже приблизились к тому, чтобы осознать, что вы перед собой видите. Но если вы не понимаете, как сделано, как же можете это осознать? Это огромная наивность культуры восприятия: осознать нельзя без знания о том, как это сделано. В этом проблема и критики в принципе, и театральной сегодня: очень много людей про это говорят и очень мало, на самом деле, знают, как производится театр. Поэтому зачастую и происходят такие считки – очень внешние, на уровне журнала «Крокодил». Так и у вас. Только не обижайтесь. Или человек замолкает: «Здесь вот я был холоден, а здесь я был горяч». Он даже себя различить толком не может, да и еще то, где он присутствует. Все это – проблема восприятия, тренировки. Это профессия, требующая не меньшей, а еще большей тренировки сознания, ежедневной – надо общаться с правильными людьми, нейроны же капризные у нас – и правильные книги читать, слушать свою интуицию и в первую очередь при помощи этой интуиции выстраивать каждый день, свою судьбу. Если вы погружаетесь в сегодняшний институт, считайте, что вы погублены. Я очень хорошо знаю все эти институты, это место гибели. Ради бумажки погружать свое сознание на такую долгую жизнь в эту кислоту – это очень опасно: там все будет разъедено, уничтожено сознание. Спастись надо в первую очередь от этих бесконечных опасностей, которые сегодня подстерегают интеллигибельное сознание. И путь этого спасения – индивидуальный выбор человека. Когда говорит Кирилл [Широков (композитор)], я слышу спокойное, спасшееся сознание, он мыслит свободно. Я там слышу индивидуальные идеи, которые здесь и сейчас появляются в речи человека. А кто-то испытывает к этой речи аллергию. Бойтесь этих людей! Бойтесь аллергии к идеям! Потому что это испытывают паразиты, форматы внутреннего сознания, и их надо преодолевать. Как только сознание оказывается форматированным, инерционным, и вы, подчиняясь этому, начинаете творить тот или иной образ письма, в эту секунду вы усугубляете эту проблему.
Я немножко, конечно, рисую перед вами страшилку, но это, к сожалению, мягкое повествование о том, что происходит сегодня с сознанием, пытающимся воспринимать театр. Нет никакой ответственности за восприятие, кроме институциональной системы оценок. Но вы же не КПП! (…)
Нельзя мыслить при помощи оценочных субстанций. Оценка в конечном итоге есть вершина развития, и выражается она в действенном или экзистенциалььном акте человека. Человек кого-то убивает – он совершает акт. Или он в кого-то влюбляется, или он меняет свою жизнь. Это огромный акт. И эта оценка произошедшего проживает только в заключении своего процесса. На всех остальных уровнях восприятия культуры и жизни нет места для КПП, понимаете? Происходит милитаризация общества. Homo Soveticus же не умер, он мутирует.
Вот вы, например, Лиза. Ваша изначальная предпосылка полностью подчинила мышление. «Театр Истоков» не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит (как и Гротовский, на самом деле), но если и имеет, то после огромного количества метаморфоз, прыганий из бочки в бочку Ивана-дурака. Если не различить все эти метаморфозы, лучше не браться за такой труд, который вы демонстрируете. Это симулякр, а не анализ. Дело в том, что разговор о сакральном в театре требует личного опыта. Опыта нет, если информация взята из книг: по пути того, как вы собираете информацию из книг, вы окутываете это невероятными призраками своего восприятия. Страницу можно читать, например, три часа. Театр, на самом деле, это огромное искусство чтения. И он не должен этого чураться. Это огромное искусство анализа текста. Только к обычным аналитическим свойствам, – которые вы, я надеюсь, правильно восприняли из своих уроков, института, – к ним добавляются еще несколько сложнейших техник чтения текста как такового. Любой артист, режиссер обязательным образом проходит эту школу; вот только школа, которую проходили советские актеры и режиссеры, оказалась очень слабой – в результате она остыла, замерзла до какой-то чудовищной истории. Но техники чтения остались в истории. И когда мы с какого-то переполоха внутреннего называем кого-то «профессионалом» или «студентом», еще как-то обзываем людей вокруг себя, – мы делаем акт очернения собственного сознания. Этих дифференциаций же не существует больше, понимаете? Это что-то крайне опасное.
Я бы и не советовал пользоваться чем-то обратным этому – таким выражением, как «Театр Истоков», чудовищной смеси структурализма с постсоветикусом… Это все неправильно. Лучше мычать, как Всеволод Лисовский, зато выделить одну конкретную мысль, которая поражает своею свежестью. Мысль о том, что на самом деле концептуальное искусство сегодня уступило место экспрессивному абстракционизму. Это мысль, в которой «гудит» очень серьезное внедрение, происходящее сегодня и во время театров-процессов. Что из этой мысли вытекает наружу и как ее можно осознать, развернуть, применить в работе восприятия искусства – отдельный разговор. И не собачье это дело Всеволода всех вас учить, он совершает собственный акт. И я в этом акте вижу здоровое сознание, которое догадывается о том, что происходит во времени, прежде всего театральном. Одна идея – большой трактат.
А откуда берется одно и как получается другое? Это вам нужно серьезно выяснить в процессе общения. Это не значит, что мои слова превратят вас всех в маленьких Юханановых, не дай боже. Вы останетесь сами собой, вы ими станете. Дело в том, что сознание – это что-то недостроенное в нас, это подарок, с которым мы еще должны разобраться. И это очень большая работа. Есть такая банальность: мол, любовь – это работа, так вот все работа, что касается сознания. И какнужно работать – вот вопрос, перед которым вы оказываетесь на территории этого семинара.
II
Лиза: А диалог сейчас предполагается? На самом деле, то, что я здесь делала, – это игры разума. Я попыталась провести мысль, что, взяв за точку абсолютно любой постулат Вашего спектакля, можно сделать спираль, в которую войдут заложенные смысловые коды. Я прекрасно понимаю, что это зависит от уровня восприятия…
Юхананов: Стоп-стоп, давайте остановимся. Вы сказали – «смысловые коды, которые закладываются». Давайте разберемся, что Вы имеете в виду. Что значит «смысловые коды»? И кем они закладываются? Сами заложились? Это что, мины?
Лиза: Нет, я понимаю, что здесь уже акт творчества совершает зритель, он пытается это все вычленить. Это чудесно, это черта театра. Под смысловыми кодами лично я подразумевала не только какие-то узнаваемые образы, но скорее – сложную мотивную структуру, за которую можно уцепиться и которой можно следовать.
Юхананов: Хорошо, вот Вы, предположим, знаете про семиотический подход. Как Вам кажется, семиотика вообще в театре возможна?
Лиза: Мне кажется, что в театре возможно все.
Юхананов: Нет-нет, театр – все-таки не Греция.
Лиза: А попытки воспроизвести греческий театр сегодня?
Юхананов: Да нет, это невероятно наивная вообще сама по себе фраза.
Лиза: Хочется быть наивной в таких вопросах. И верить в это. Нет, если честно, я не видела семиотического театра.
Юхананов: Да нет никакого семиотического театра! Семиотика – это просто наука, пытающаяся отнестись к театру как к тексту. Но первое, на что надо попробовать ответить, это является ли театр текстом. Как Вы считаете?
Лиза: Тут мое личное мнение нужно или мнение ученых?
Юхананов: Какое мнение ученых, каких ученых? Где Вы видели этих ученых, у которых есть мнение?
Лиза: Это вопрос к зрителю, который определяет, во что верить. Это вопрос подхода. То есть кому-то проще воспринимать абсолютно любое искусство через семиотику, через текст, кому-то – делать акцент на эмоциональной или смысловой составляющей.
Юхананов: Ну вот театр – он разделяется на элементы или нет?
Лиза: Разделяется. И лично я пытаюсь семиотику от театра отделять.
Юхананов: У нас сейчас с Вами разговор козла с крокодилом. Правда. Мы не начали даже говорить, вот в чем беда. Я задаю вопрос, и это включает в Вас какую-то машинку, Вы начинаете ее воспроизводить в разговоре. Я останавливаю этот процесс, то есть перестаю спрашивать, увожу в сторону, пытаюсь опять вступить с Вами в контакт – он опять не получается. «Театр Истоков», о котором Вы говорите, базируется на том, что машинка устранена. Вот если она не устранена, «Театр Истоков» даже начаться не может. В этом позиция Гротовского. Добиться этого очень сложно, он этого добивается годами. Если внутренняя машинка, перемалывающая смыслы и все время воспроизводящая одно и то же состояние сознания, не устранена, то тогда, собственно, не возможно никакое начало, никакой исток. Вот я с Вами разговариваю, и Вы демонстрируете невозможность вступить во взаимодействие с «Театром Истоков», к которому Вы, как к ногтю, приводите происходящее на сцене. Вам не кажется, что это парадокс?
Лиза: В докладе я не привожу к ногтю. Я пытаюсь проследить психологические связи, впечатления…
Юхананов: Ну а Вы понимаете, что такое «Театр Истоков»?
Лиза: Я понимаю в теории.
Юхананов: Но это же невозможно! «Театр Истоков» – про то, что понимать в теории нельзя. Он запрещает это!
Лиза: Да, это переживание…
Юхананов: Нет, это никакое не переживание, это опыт. Личный опыт человека. Если человек лишает себя опыта, он остается на той же самой территории, на которой он был и до попытки получения опыта. Какие бы книжки он ни прочел, чем бы ни заслонялся... В этом смысле, на мой взгляд, проблема современного воспитания театрального мышления связана с тем, что люди лишены опыта театра. Разрыв усиливается, и в первую очередь он опасен именно для этих профессий, как театральный критик и т.д. Они отстают во времени. Заявление, что театр существует при помощи критики, есть невероятная иллюзия. Об этом люди думали еще в начале 1920-х годов, но так не получилось, и люди теперь протираются к театру, минуя критические фильтры – будь то фильтры сталинские или модернистские… Они пытаются реконструировать театр.
III
Я занимался сложнейшими опытами, связанными с реконструкцией, например, театра XVIII века. У меня был спектакль – «Реконструкция реконструкции», это связано с моим изучением планировочного театра как такового. Вот тогда я всмотрелся в культуру планировки, мизансценирования, которая была свойственна театру той эпохи. Всмотрелся практически, через Азаровского, который был крупнейшим режиссером и одновременно знатоком XVIII века. Он сделал такую реконструкцию, представив себе, как бы в императорском театре мог идти спектакль «Недоросль». Очень интересный опыт. Или Станиславский – тоже. Все говорят про Станиславского, но никто его, на самом деле, не знает. В книжках его нет. Он еще чуть-чуть хранится в планировках и каких-то свободных текстах. Но планировки Станиславского мало кому известны, и чтобы в них разобраться, надо их сыграть. В 90-е годы я занимался со своими учениками такой практикой: бродиловка по планировкам. Я играл роль В.И. Немировича-Данченко: принимал планировки, предлагал посмотреть, что там со своей дачи прислал Констан Сергеич. И вот мы начинали ходить. Когда я начинал ходить и выполнять его элементарные мизансценические предложения, я начинал его чувствовать. Как пианист, чтобы почувствовать партитуру в какой-то элементарной разверстке, он ее быстро внутри себя или пальцами на пианино играет – и вдруг начинает это чувствовать. Такие партитуры присылал Константин Сергеевич – Немировичу-Данченко. Они никогда не были реализованы, потому что Владимир Иванович говорил: это мы допустим, это делать не надо. Но планировки – это самое простое, потому что они касаются перемещения тел. С другой стороны, это касается и перемещения игры, и изменения ее регистров и т.п.
Почему я сейчас об этом говорю? Я привожу пример элементарного зрения, касающийся проблемы восприятия мизансцены. Конечно, мы можем с вами говорить – вот, нам прекрасно продемонстрировал зритель. Но когда сам критик становится зрителем, он говорит, что зрителем не является. Вот в чем парадокс. Для критика (человека, который сознательно ориентирован на концентрацию восприятия и дальнейшее обсуждение) быть зрителем – это только начало. Сохранить в себе зрителя очень трудно. Вот вы делились своими зрительскими впечатлениями, но это все, чем вы поделились. Причем вы даже не обратили внимание, насколько парадоксально устроен ваш собственный зритель.
Моя позиция не провокативна. Это просто робкая, обреченная изначально на неудачу попытка что-то вам передать. Но я понимаю, что на данный момент в этой компании мои слова обречены на непонимание. Нестрашно, я все равно их произнесу. Вам придется различить собственного зрителя. Как бы вы от этого ни отталкивались, что бы ни говорило вам об обратном, вы однажды убедитесь, как этот самый неизвестный вам собственный зритель в вас существует. Есть абсолютный зритель – тот, кто на самом деле смотрит спектакль. И этот абсолютный зритель лишен какого-либо статуса «междусобойчика» или еще чего.
Каждый, кто оказывается на территории восприятия спектакля, заново, в эту самую секунду становится его зрителем. И вот что с ним происходит? А сегодня люди даже не знают, что происходит в их внутреннем процессе восприятия, как он меняется и что это вообще такое (тогда как это и есть «абсолютный зритель»!). А потом человек выходит и под воздействием тех или иных контекстов своей жизни начинает говорить. И в эту секунду он получает не того зрителя, который воспринимает театр! Он получает нового зрителя, автора-потребителя, который начинает осознавать свое произведение искусства по отношению к только что совершенному восприятию. А тот абсолютный зритель, который еще ничем не является, эта нулевая степень восприятия театра – остается ему неизвестным. Потому что даже если уже пробита система – вот этот самый смертельный танец мысли и форм, который совершается в сознании воспринимающего человека, –он потом при выходе из зала обязательно объединится в ответ и отдаст свою тотальную реплику – в виде оценки, восприятия, анализа и всего остального.
Опыт начинается с того, что надо обрести путь к этому абсолютному зрителю. Надо научиться с ним иметь дело, его выслушивать, стремиться к нему. Без этого понимание сегодняшнего современного театра невозможно, как и любого живого процессуального акта. А добраться до в вас же находящегося абсолютного зрителя не может никто, ни один критик сегодня! Никто не демонстрирует такого искусства, кроме философов, когда те начинают писать о театре. Композиторы демонстрируют это искусство, их сознание воспитано для этого. А критики за мельчайшим исключением не могут этого сделать! Они даже не знают об этой проблеме!
Вот на этой очень мягкой ноте, дорогие мои собеседники, я бы хотел остановить поток своего сознания, чтобы ни в коем случае Вас ни обидеть, ни напугать и не встревожить покоя внутреннего царства, которое в каждом из вас так мило произрастает на благо вашим друзьям.
Юхананов: … Я говорю сейчас с вами, как с семинаром – со зрителем я бы так, конечно, не стал говорить. Композитор, например, слушает, а не видит, художник – видит, но не слышит. Что же происходит с критиком? Он не видит и, по сути, не слышит. Вот простая вещь – природа существования актера. Если вы не разберетесь в том, что существование актера на сцене – более сложная, многослойная субстанция, в которой надо беспощадно точно разбираться, а различению этого надо посвятить практическое время, – если все это вы передавите непроверенными способами своего восприятия, вы перестанете быть мастерами восприятия (а собственно, критик, в первую очередь, и есть мастер восприятия). Конечно, мы привыкли синтезировать, но что мы внутри себя синтезируем? – собственное сознание, не более того. Когда мы воспринимаем театр, мы насилуем восприятие или облегчаем, потому что все становится вроде бы ясным. В этот момент наша внутренняя система восприятия просто отдыхает. Когда люди полюбили ездить в Турцию, то стали называть это «овощной тип отдыха». На территории этой сложной системы восприятия происходящего нельзя быть овощем.
А как учиться воспринимать театр, особенно такой сложный, какой вам пришлось сейчас пережить? (Пауза.) Вот я и задался сейчас таким вопросом. (Пауза.) Что из чего делается? Ну, во-первых, если вы точно понимаете, как это сделано, тогда вы уже приблизились к тому, чтобы осознать, что вы перед собой видите. Но если вы не понимаете, как сделано, как же можете это осознать? Это огромная наивность культуры восприятия: осознать нельзя без знания о том, как это сделано. В этом проблема и критики в принципе, и театральной сегодня: очень много людей про это говорят и очень мало, на самом деле, знают, как производится театр. Поэтому зачастую и происходят такие считки – очень внешние, на уровне журнала «Крокодил». Так и у вас. Только не обижайтесь. Или человек замолкает: «Здесь вот я был холоден, а здесь я был горяч». Он даже себя различить толком не может, да и еще то, где он присутствует. Все это – проблема восприятия, тренировки. Это профессия, требующая не меньшей, а еще большей тренировки сознания, ежедневной – надо общаться с правильными людьми, нейроны же капризные у нас – и правильные книги читать, слушать свою интуицию и в первую очередь при помощи этой интуиции выстраивать каждый день, свою судьбу. Если вы погружаетесь в сегодняшний институт, считайте, что вы погублены. Я очень хорошо знаю все эти институты, это место гибели. Ради бумажки погружать свое сознание на такую долгую жизнь в эту кислоту – это очень опасно: там все будет разъедено, уничтожено сознание. Спастись надо в первую очередь от этих бесконечных опасностей, которые сегодня подстерегают интеллигибельное сознание. И путь этого спасения – индивидуальный выбор человека. Когда говорит Кирилл [Широков (композитор)], я слышу спокойное, спасшееся сознание, он мыслит свободно. Я там слышу индивидуальные идеи, которые здесь и сейчас появляются в речи человека. А кто-то испытывает к этой речи аллергию. Бойтесь этих людей! Бойтесь аллергии к идеям! Потому что это испытывают паразиты, форматы внутреннего сознания, и их надо преодолевать. Как только сознание оказывается форматированным, инерционным, и вы, подчиняясь этому, начинаете творить тот или иной образ письма, в эту секунду вы усугубляете эту проблему.
Я немножко, конечно, рисую перед вами страшилку, но это, к сожалению, мягкое повествование о том, что происходит сегодня с сознанием, пытающимся воспринимать театр. Нет никакой ответственности за восприятие, кроме институциональной системы оценок. Но вы же не КПП! (…)
Нельзя мыслить при помощи оценочных субстанций. Оценка в конечном итоге есть вершина развития, и выражается она в действенном или экзистенциалььном акте человека. Человек кого-то убивает – он совершает акт. Или он в кого-то влюбляется, или он меняет свою жизнь. Это огромный акт. И эта оценка произошедшего проживает только в заключении своего процесса. На всех остальных уровнях восприятия культуры и жизни нет места для КПП, понимаете? Происходит милитаризация общества. Homo Soveticus же не умер, он мутирует.
Вот вы, например, Лиза. Ваша изначальная предпосылка полностью подчинила мышление. «Театр Истоков» не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит (как и Гротовский, на самом деле), но если и имеет, то после огромного количества метаморфоз, прыганий из бочки в бочку Ивана-дурака. Если не различить все эти метаморфозы, лучше не браться за такой труд, который вы демонстрируете. Это симулякр, а не анализ. Дело в том, что разговор о сакральном в театре требует личного опыта. Опыта нет, если информация взята из книг: по пути того, как вы собираете информацию из книг, вы окутываете это невероятными призраками своего восприятия. Страницу можно читать, например, три часа. Театр, на самом деле, это огромное искусство чтения. И он не должен этого чураться. Это огромное искусство анализа текста. Только к обычным аналитическим свойствам, – которые вы, я надеюсь, правильно восприняли из своих уроков, института, – к ним добавляются еще несколько сложнейших техник чтения текста как такового. Любой артист, режиссер обязательным образом проходит эту школу; вот только школа, которую проходили советские актеры и режиссеры, оказалась очень слабой – в результате она остыла, замерзла до какой-то чудовищной истории. Но техники чтения остались в истории. И когда мы с какого-то переполоха внутреннего называем кого-то «профессионалом» или «студентом», еще как-то обзываем людей вокруг себя, – мы делаем акт очернения собственного сознания. Этих дифференциаций же не существует больше, понимаете? Это что-то крайне опасное.
Я бы и не советовал пользоваться чем-то обратным этому – таким выражением, как «Театр Истоков», чудовищной смеси структурализма с постсоветикусом… Это все неправильно. Лучше мычать, как Всеволод Лисовский, зато выделить одну конкретную мысль, которая поражает своею свежестью. Мысль о том, что на самом деле концептуальное искусство сегодня уступило место экспрессивному абстракционизму. Это мысль, в которой «гудит» очень серьезное внедрение, происходящее сегодня и во время театров-процессов. Что из этой мысли вытекает наружу и как ее можно осознать, развернуть, применить в работе восприятия искусства – отдельный разговор. И не собачье это дело Всеволода всех вас учить, он совершает собственный акт. И я в этом акте вижу здоровое сознание, которое догадывается о том, что происходит во времени, прежде всего театральном. Одна идея – большой трактат.
А откуда берется одно и как получается другое? Это вам нужно серьезно выяснить в процессе общения. Это не значит, что мои слова превратят вас всех в маленьких Юханановых, не дай боже. Вы останетесь сами собой, вы ими станете. Дело в том, что сознание – это что-то недостроенное в нас, это подарок, с которым мы еще должны разобраться. И это очень большая работа. Есть такая банальность: мол, любовь – это работа, так вот все работа, что касается сознания. И какнужно работать – вот вопрос, перед которым вы оказываетесь на территории этого семинара.
II
Лиза: А диалог сейчас предполагается? На самом деле, то, что я здесь делала, – это игры разума. Я попыталась провести мысль, что, взяв за точку абсолютно любой постулат Вашего спектакля, можно сделать спираль, в которую войдут заложенные смысловые коды. Я прекрасно понимаю, что это зависит от уровня восприятия…
Юхананов: Стоп-стоп, давайте остановимся. Вы сказали – «смысловые коды, которые закладываются». Давайте разберемся, что Вы имеете в виду. Что значит «смысловые коды»? И кем они закладываются? Сами заложились? Это что, мины?
Лиза: Нет, я понимаю, что здесь уже акт творчества совершает зритель, он пытается это все вычленить. Это чудесно, это черта театра. Под смысловыми кодами лично я подразумевала не только какие-то узнаваемые образы, но скорее – сложную мотивную структуру, за которую можно уцепиться и которой можно следовать.
Юхананов: Хорошо, вот Вы, предположим, знаете про семиотический подход. Как Вам кажется, семиотика вообще в театре возможна?
Лиза: Мне кажется, что в театре возможно все.
Юхананов: Нет-нет, театр – все-таки не Греция.
Лиза: А попытки воспроизвести греческий театр сегодня?
Юхананов: Да нет, это невероятно наивная вообще сама по себе фраза.
Лиза: Хочется быть наивной в таких вопросах. И верить в это. Нет, если честно, я не видела семиотического театра.
Юхананов: Да нет никакого семиотического театра! Семиотика – это просто наука, пытающаяся отнестись к театру как к тексту. Но первое, на что надо попробовать ответить, это является ли театр текстом. Как Вы считаете?
Лиза: Тут мое личное мнение нужно или мнение ученых?
Юхананов: Какое мнение ученых, каких ученых? Где Вы видели этих ученых, у которых есть мнение?
Лиза: Это вопрос к зрителю, который определяет, во что верить. Это вопрос подхода. То есть кому-то проще воспринимать абсолютно любое искусство через семиотику, через текст, кому-то – делать акцент на эмоциональной или смысловой составляющей.
Юхананов: Ну вот театр – он разделяется на элементы или нет?
Лиза: Разделяется. И лично я пытаюсь семиотику от театра отделять.
Юхананов: У нас сейчас с Вами разговор козла с крокодилом. Правда. Мы не начали даже говорить, вот в чем беда. Я задаю вопрос, и это включает в Вас какую-то машинку, Вы начинаете ее воспроизводить в разговоре. Я останавливаю этот процесс, то есть перестаю спрашивать, увожу в сторону, пытаюсь опять вступить с Вами в контакт – он опять не получается. «Театр Истоков», о котором Вы говорите, базируется на том, что машинка устранена. Вот если она не устранена, «Театр Истоков» даже начаться не может. В этом позиция Гротовского. Добиться этого очень сложно, он этого добивается годами. Если внутренняя машинка, перемалывающая смыслы и все время воспроизводящая одно и то же состояние сознания, не устранена, то тогда, собственно, не возможно никакое начало, никакой исток. Вот я с Вами разговариваю, и Вы демонстрируете невозможность вступить во взаимодействие с «Театром Истоков», к которому Вы, как к ногтю, приводите происходящее на сцене. Вам не кажется, что это парадокс?
Лиза: В докладе я не привожу к ногтю. Я пытаюсь проследить психологические связи, впечатления…
Юхананов: Ну а Вы понимаете, что такое «Театр Истоков»?
Лиза: Я понимаю в теории.
Юхананов: Но это же невозможно! «Театр Истоков» – про то, что понимать в теории нельзя. Он запрещает это!
Лиза: Да, это переживание…
Юхананов: Нет, это никакое не переживание, это опыт. Личный опыт человека. Если человек лишает себя опыта, он остается на той же самой территории, на которой он был и до попытки получения опыта. Какие бы книжки он ни прочел, чем бы ни заслонялся... В этом смысле, на мой взгляд, проблема современного воспитания театрального мышления связана с тем, что люди лишены опыта театра. Разрыв усиливается, и в первую очередь он опасен именно для этих профессий, как театральный критик и т.д. Они отстают во времени. Заявление, что театр существует при помощи критики, есть невероятная иллюзия. Об этом люди думали еще в начале 1920-х годов, но так не получилось, и люди теперь протираются к театру, минуя критические фильтры – будь то фильтры сталинские или модернистские… Они пытаются реконструировать театр.
III
Я занимался сложнейшими опытами, связанными с реконструкцией, например, театра XVIII века. У меня был спектакль – «Реконструкция реконструкции», это связано с моим изучением планировочного театра как такового. Вот тогда я всмотрелся в культуру планировки, мизансценирования, которая была свойственна театру той эпохи. Всмотрелся практически, через Азаровского, который был крупнейшим режиссером и одновременно знатоком XVIII века. Он сделал такую реконструкцию, представив себе, как бы в императорском театре мог идти спектакль «Недоросль». Очень интересный опыт. Или Станиславский – тоже. Все говорят про Станиславского, но никто его, на самом деле, не знает. В книжках его нет. Он еще чуть-чуть хранится в планировках и каких-то свободных текстах. Но планировки Станиславского мало кому известны, и чтобы в них разобраться, надо их сыграть. В 90-е годы я занимался со своими учениками такой практикой: бродиловка по планировкам. Я играл роль В.И. Немировича-Данченко: принимал планировки, предлагал посмотреть, что там со своей дачи прислал Констан Сергеич. И вот мы начинали ходить. Когда я начинал ходить и выполнять его элементарные мизансценические предложения, я начинал его чувствовать. Как пианист, чтобы почувствовать партитуру в какой-то элементарной разверстке, он ее быстро внутри себя или пальцами на пианино играет – и вдруг начинает это чувствовать. Такие партитуры присылал Константин Сергеевич – Немировичу-Данченко. Они никогда не были реализованы, потому что Владимир Иванович говорил: это мы допустим, это делать не надо. Но планировки – это самое простое, потому что они касаются перемещения тел. С другой стороны, это касается и перемещения игры, и изменения ее регистров и т.п.
Почему я сейчас об этом говорю? Я привожу пример элементарного зрения, касающийся проблемы восприятия мизансцены. Конечно, мы можем с вами говорить – вот, нам прекрасно продемонстрировал зритель. Но когда сам критик становится зрителем, он говорит, что зрителем не является. Вот в чем парадокс. Для критика (человека, который сознательно ориентирован на концентрацию восприятия и дальнейшее обсуждение) быть зрителем – это только начало. Сохранить в себе зрителя очень трудно. Вот вы делились своими зрительскими впечатлениями, но это все, чем вы поделились. Причем вы даже не обратили внимание, насколько парадоксально устроен ваш собственный зритель.
Моя позиция не провокативна. Это просто робкая, обреченная изначально на неудачу попытка что-то вам передать. Но я понимаю, что на данный момент в этой компании мои слова обречены на непонимание. Нестрашно, я все равно их произнесу. Вам придется различить собственного зрителя. Как бы вы от этого ни отталкивались, что бы ни говорило вам об обратном, вы однажды убедитесь, как этот самый неизвестный вам собственный зритель в вас существует. Есть абсолютный зритель – тот, кто на самом деле смотрит спектакль. И этот абсолютный зритель лишен какого-либо статуса «междусобойчика» или еще чего.
Каждый, кто оказывается на территории восприятия спектакля, заново, в эту самую секунду становится его зрителем. И вот что с ним происходит? А сегодня люди даже не знают, что происходит в их внутреннем процессе восприятия, как он меняется и что это вообще такое (тогда как это и есть «абсолютный зритель»!). А потом человек выходит и под воздействием тех или иных контекстов своей жизни начинает говорить. И в эту секунду он получает не того зрителя, который воспринимает театр! Он получает нового зрителя, автора-потребителя, который начинает осознавать свое произведение искусства по отношению к только что совершенному восприятию. А тот абсолютный зритель, который еще ничем не является, эта нулевая степень восприятия театра – остается ему неизвестным. Потому что даже если уже пробита система – вот этот самый смертельный танец мысли и форм, который совершается в сознании воспринимающего человека, –он потом при выходе из зала обязательно объединится в ответ и отдаст свою тотальную реплику – в виде оценки, восприятия, анализа и всего остального.
Опыт начинается с того, что надо обрести путь к этому абсолютному зрителю. Надо научиться с ним иметь дело, его выслушивать, стремиться к нему. Без этого понимание сегодняшнего современного театра невозможно, как и любого живого процессуального акта. А добраться до в вас же находящегося абсолютного зрителя не может никто, ни один критик сегодня! Никто не демонстрирует такого искусства, кроме философов, когда те начинают писать о театре. Композиторы демонстрируют это искусство, их сознание воспитано для этого. А критики за мельчайшим исключением не могут этого сделать! Они даже не знают об этой проблеме!
Вот на этой очень мягкой ноте, дорогие мои собеседники, я бы хотел остановить поток своего сознания, чтобы ни в коем случае Вас ни обидеть, ни напугать и не встревожить покоя внутреннего царства, которое в каждом из вас так мило произрастает на благо вашим друзьям.
30.12.2018
